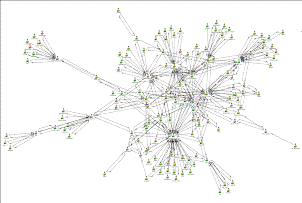- Вид работы: Дипломная (ВКР)
- Предмет: Культурология
- Язык: Русский , Формат файла: MS Word 50,37 kb
Импрессионизм во французской культуре XIX века
Оглавление
Введение
. Камиль Коро и барбизонская школа
. Художественные особенности импрессионизма
. Салон Отверженных
. Первая выставка импрессионистов
. 1874 – 1877
. Серьёзные разногласия
. Дальнейшие выставки и расхождение мнений
. Восьмая и последняя выставка импрессионистов
Заключение
Список литературы
Введение
Импрессионизм – это в первую очередь достигшее невиданной утончённости искусство наблюдения реальной действительности.
В. Н. Прокофьев
Сейчас, когда горячие споры об импрессионизме ушли в прошлое, вряд ли кто решится оспаривать, что движение импрессионистов было дальнейшим шагом в развитии европейской реалистической живописи. Стремясь к максимальной непосредственности и точности в передаче зримого мира, они стали писать преимущественно на открытом воздухе и подняли значение этюда с натуры, почти вытеснившего традиционный тип картины, тщательно и неспешно создаваемой в мастерской.
Последовательно просветляя свою палитру <#”justify”>2. Художественные особенности импрессионизма
Импрессионизм составил целую эпоху во французском искусстве второй половины 19 века. Но импрессионисты не мнили себя ни создателями чего-то совершенно нового, ни тем более разрушителями старого. Они всячески подчёркивали свою связь с исконными французскими традициями, начиная от Клуэ, Пуссена, Клода Лоррена, через 18 век, с Ватто и Шарденом, и до 1830-х годов, с Делакруа и Коро. Они были неутомимыми тружениками и скромными людьми. «Разрушителями» их представляла пресса, и волей-неволей им приходилось бороться за своё место в искусстве, но борьба их не ожесточала. Ренуар писал Эдуарду Мане: Вы – весёлый боец без ненависти к кому бы то ни было, как старый галл; и я люблю вас за эту весёлость, сохраняющуюся даже в минуты претерпеваемой несправедливости. Такими они и были – весёлыми бойцами без ненависти, а их искусство – жизнерадостным и светлым, хотя в их собственном жизненном опыте трагедий было достаточно. Не приходится осуждать их за то, что они не отражали мрачных и горьких сторон жизни в своей живописи, ведь героем их картин был свет, а задачей их – открыть людям глаза на красоту окружающего мира.
«Программа» импрессионистов, если можно говорить об их программе, была, в сущности, заложена в простых словах, сказанных молодому Клоду Моне его учителем и другом Эженом Буденом: Море и небо, животные, люди и деревья так красивы именно в том виде, в каком их создала природа, со всеми их качествами, в их подлинном бытии, такие какие они есть, окружённые воздухом и светом.
Живописью импрессионистов поэтизировалась вся множественность явлений реального мира, без предвзятого подразделения их на поэтические и тривиальные, высокие и низкие. Романтики тоже восставали против искусственных разграничений натуры на «благородную» и «неблагородную», но на деле такой отбор всё-таки производили: писали арабских скакунов, но не извозчичьи пролётки, алжирские гаремы, но не парижские кабачки. Для импрессионистов же «низкая» натура не была более низкой, чем всякая другая. В круг поэтического внимания импрессионистов вошла не только сельская природа, как у барбизонцев, но вся современность и повседневность. Толпа на парижских бульварах, поток экипажей, скачки, рынки, продавщицы, прачки, уголок кафе, свет газовых фонарей, репетиции балета… Какой-нибудь переулочек не менее ценен для живописи, чем эффектные итальянские руины или готический собор, – перед очами живописца это объекты равноправные, так же как обыкновенная женщина, моющаяся в тазу, ничуть не хуже Венеры, выходящей из морской пены. Луг со стогом сена не уступает горным вершинам, озарённым луной. Везде, где есть движение, жизнь, свет, таится заманчивая пещера сокровищ: во власти художника претворить этот материал в живописную драгоценность, каким бы он ни казался заурядным взору равнодушного прохожего.
Импрессионизм делает эстетически значимой подлинную, современную жизнь в её естественности, во всём богатстве и сверкании её красок, запечатлевая видимый мир в присущей ему постоянной изменчивости, воссоздавая единство человека и окружающей его среды. Акцентируя как бы случайно пойманный взглядом преходящий момент непрерывного течения жизни, импрессионисты отказываются от повествования, от фабулы. В своих пейзажах, портретах, многофигурных композициях художники стремятся сохранить непредвзятость, силу и свежесть «первого впечатления», которое позволяет схватить в увиденном неповторимо характерное, не вдаваясь в отдельные детали. Изображая мир как вечно меняющееся оптическое явление, импрессионизм не стремится к подчёркиванию его постоянных, глубинных качеств. Познание мира в импрессионизме основывается главным образом на изощрённой наблюдательности, визуальном опыте художника, использующего для достижения художественной убедительности произведения и законы естественного оптического восприятия. Произведения импрессионистов отличаются жизнерадостностью, увлечённостью чувственной красотой мира.
Импрессионизм довёл до предельной тонкости живописное восприятие и уловил в отношениях света, воздуха и цвета нечто такое, чего раньше не замечали. Ключ к этому был простой – пленер. Импрессионисты отказались от традиционного метода писания картин, которое начиналось с подмалёвка, оканчивалось лессировками и протекало в четырёх стенах мастерской. Они начинали и заканчивали работу на открытом воздухе, а ля прима, сняв, таким образом, различие между этюдом и картиной.
Для художника – импрессиониста по большей части важно не то, что он изображает, а важно как. Объект становится только поводом для решений чисто живописных, зрительных задач. Поэтому импрессионизм первоначально имеет еще одно, позднее забытое название – хромантизм (от греч. Chroma – цвет). Импрессионисты обновили колорит, они отказались от темных, земляных красок и наносили на холст чистые, спектральные цвета, почти не смешивая их предварительно на палитре. Натурализм импрессионизма заключался в том, что самое неинтересное, обыденное, прозаическое превращалось в прекрасное, стоило только художнику увидеть там тонкие нюансы серого и голубого.
3.Салон Отверженных
Начиная с 1860-х годов среди двухтысячной армии художников, живших и работавших в Париже, поднималась волна недовольства. Отчасти предметом недовольства был собственно художественный истэблишмент, а не художественные идеалы, которых он придерживался и до некоторой степени навязывал. Недовольство подогревалось скрытой политической оппозицией умеренному авторитаризму правительства Наполеона III. Примешивались и чувства зависти и отчаяния, которые не мог не вызывать порядок отбора работ в Салоне, а для всех художников, какой бы школы они ни придерживались, Салон был единственной дорогой к успеху. Кризис произошел в 1863 году и стал не только катастрофой сам по себе, но для последующих поколений, в массовом воображении превратился в столь же значительное событие, что и штурм Бастилии.
В тот год жюри Салона установило срок подачи работ на конкурс с 20 марта по 1 апреля. Было подано свыше 5000 работ от 1430 художников, среди них работы Мане, Уистлера и Йонгкинда. Новые правила отбора (они были установлены после того, как жюри случайно отклонило работы, выполненные самими членами жюри) гласили, что правом входить в состав жюри пользуются все члены Академии и все получившие медали на предыдущих выставках. Это позволяло художникам, содержавшим школы-мастерские, отдавать предпочтение своим ученикам. Обычно жюри находилось под контролем одного наиболее влиятельного члена жюри. В том году им был Эмиль Синьоль, учитель Ренуара по Школе изящных искусств, закоренелый приверженец самых строгих правил. К 5 апреля по всем кафе Батиньоля и Левого берега пошли слухи, что бескомпромиссное жюри отклонило 2783 работы у 442 художников, и, главное, что не все из них были революционерами из барбизонской школы; некоторые из отвергнутых работ были написаны художниками, которым покровительствовала сама Императрица. В общем, разразился скандал. 20 апреля выставку посетил Наполеон III, в сопровождении своего адъютанта генерала Лебёфа. Ему показали некоторые из отвергнутых работ. Он нашел, что они мало чем отличаются от тех, что были приняты жюри. Император выступил с заявлением, напечатанным в газете "Le Moniteur Universel": "Император получил многочисленные жалобы в отношении произведений искусства, отвергнутых жюри Салона. Его Величество, желая дать возможность общественности прийти к собственному заключению о правомерности этих жалоб, решил, что отвергнутые произведения будут выставлены напоказ в другой части Дворца Индустрии. Выставка эта будет добровольной, и тем, кто не пожелает принять в ней участие, нужно будет лишь уведомить администрацию, которая незамедлительно возвратит им их работы".
К 7 мая – крайнему сроку, к которому художники должны были принять решение о востребовании своих работ, – около 600 картин из представленных на суд жюри были возвращены их создателям. Как писал в "L’Artiste" Жюль Кастаньяри (1830-1888), великий поборник новаторства в искусстве, дело обстояло не так однозначно, как это могло показаться: "Известие привело парижские мастерские в состояние замешательства. Ликовали и обнимали друг друга. Но затем на смену восторгам пришло отрезвление. Что же теперь делать? Воспользоваться предложением и выставить свои работы? Это значит – решиться (и не без ущерба для себя) дать ответ на вопрос, подразумеваемый в самом решении, – отдать себя на суд публики, в случае, если работа признана явно плохой. И это значит поставить под сомнение объективность Комиссии и перейти на сторону Института не только в настоящее время, но и на будущее. А если не выставлять? Это значит – отдаться на суд жюри и таким образом, признав свою бездарность, способствовать росту его авторитета.
Неофициально новую выставку окрестили Салоном Отверженных. Она открылась 17 мая в пристройке ко дворцу, украшенной столь же пышно, что и Салон. Чтобы избежать разногласий насчет места развески, работы располагались строго в алфавитном порядке – мера эта, хоть и рациональная, в зрительном отношении вызвала разнобой. Успех выставки был сногсшибательным: в первый день было 10 тысяч посетителей, и число не снижалось, притом, что собственно в Салон заходили куда меньше. Выставка представляла собой странную смесь картин. В одном ряду с батальными сценами и обнаженными девами висели работы еще малоизвестных новаторов: три полотна и три гравюры Мане, три полотна Писсарро, три – Йонгкинда и не числившиеся в каталоге работы Сезанна, Гийомена, Баркмона и Фантен-Латура. Всеобщий успех имела картина Уистлера "Девушка в белом".
„Салон отверженных" с первого же дня открытия привлек огромное количество публики; по воскресеньям рекордное число посетителей доходило до трех-четырех тысяч. Публику, конечно, больше привлекал необычный характер отвергнутых работ, которые пресса называла „смехотворными", чем уже надоевшие произведения в самом Салоне.
Входя на выставку отвергнутых произведений, – сообщает Хамертон, – каждый посетитель, хочет он этого или нет, немедленно вынужден отказаться от всякой надежды обрести спокойствие, необходимое для того, чтобы справедливо сравнивать произведения искусства. Едва успев переступить порог, самые серьезные посетители разражаются взрывами смеха. Это как раз то, чего желают члены жюри, но это в высшей степени несправедливо по отношению к многим достойным художникам… Что же касается публики в целом, – добавляет автор, – то она в полном восторге. Все идут взглянуть на отвергнутые картины".
„Нужно быть вдвойне стойким, – комментирует Астрюк, – чтобы не согнуться под нашествием глупцов, которые стекаются сюда тысячами и яростно над всем глумятся".
По словам Хамертона, хотя это едва ли можно доказать, критики были даже добрее к отвергнутым, чем к принятым; во всяком случае, верно, что отвергнутым посвящались длинные заметки. В прессе даже публиковались шутки по поводу выставленных в Салоне художников, которые надеялись быть отвергнутыми в будущем году, чтобы привлечь к себе внимание.
Критики – друзья отверженных, – естественно, воспользовались случаем и начали проповедовать их „еретические" взгляды. Захария Астрюк на время пока продолжалась выставка основал ежедневную газету „Le Salon de 1863", где имел смелость писать: Мане! Величайшая художественная индивидуальность нашего времени! Я не скажу, что он стяжал лавры этого Салона… но он – его блеск, вдохновение, пьянящий аромат, неожиданность. Талант Мане обладает смелостью, которая поражает, в нем есть нечто строгое, острое и энергичное, что отражает его натуру, одновременно и сдержанную и пылкую, а главное, восприимчивую к сильным впечатлениям .
Из трех картин, выставленных Мане, две своими цветовыми акцентами обязаны были живописным испанским костюмам; одна была портретом его брата – Юноша в костюме махо, вторая – Мадемуазель В. в костюме тореадора, написанная с его любимой натурщицы Викторины Меран. Третья, числившаяся под названием Купание, впоследствии получила название Завтрак на траве. Именно эта последняя картина немедленно привлекла всех посетителей, тем более, что император объявил ее «неприличной». Мистер Хамертон соглашался с монархом, когда писал: Я не могу умолчать о примечательной картине реалистической школы, которая перенесла замысел Джорджоне в современную французскую жизнь. Джорджоне удачно задумал сельский праздник; там мужчины были одеты, дамы же нет, но сомнительная мораль картины искупалась ее превосходным цветом… Теперь какой-то жалкий француз перевел это на язык современного французского реализма, увеличил размер и заменил ужасными современными французскими костюмами изящные венецианские. Да, вот они расположились под деревьями, – главная героиня совершенно раздета… вторая женщина в рубашке выходит из маленького ручейка, струящегося рядом, и два француза в фетровых шляпах сидят на очень зеленой траве с выражением глупого блаженства на лицах. Есть там и другие картины подобного же рода, которые приводят к заключению, что нагота, изображенная вульгарными людьми, неизбежно выглядит непристойной.
Нельзя с уверенностью сказать, вызвала бы картина Мане подобную критику, если бы не была написана контрастно, с открытым противопоставлением цветов, с тенденцией к упрощению. В глазах широкой публики ее «вульгарность» заключалась скорее в манере исполнения, чем в сюжете. Тут был отказ от привычного гладкого письма, манера суммарно обозначать детали, создавать формы не при помощи линий, но противопоставлением цветов (моделировать объемы, вместо того чтобы очерчивать их), намечая контуры решительными мазками. Всё это вместе взятое встретило почти единодушное осуждение.
По сравнению с насмешками, выпавшими на долю Мане, большинство остальных художников, выставившихся в Салоне отверженных, были приняты довольно хорошо и публикой и критиками. Писсарро даже заслужил несколько похвальных строк от известного критика, который тем не менее советовал ему быть осторожным и не подражать Коро.
Хотя Салон отверженных оказался «провалом», поскольку широкая публика открыто встала на сторону жюри, показав своими насмешками и остротами, что считает отклонения справедливыми, комиссия, назначенная, чтобы изыскать средства исправления некоторых устаревших правил, получила одобрение императора, предложив ряд крутых мер. Новые правила отменяли право Академии руководить Школой изящных искусств и, в частности, ее право назначать профессоров. Эти правила устанавливали также ежегодный Салон, вместо двухгодичного, и одновременно принимали меры к тому, чтобы только одна четверть состава жюри назначалась административным путем, а три четверти должны были избираться самими выставляющими художниками. К этому пункту, однако, относилось одно важное ограничение: голосовать могли только те художники, которые уже получили медаль. Поскольку все такие художники шли вне конкурса, члены жюри в результате избирались исключительно теми, кто не должен был представлять в жюри свои работы. Совершенно никаких мер не было принято к тому, чтобы возобновить устройство контрвыставки.
4.Первая выставка импрессионистов
После «Салона отверженных» Мане становится центральной фигурой всей прогрессивной художественной интеллигенции Парижа. К нему присоединяются такие художники, как Базиль, Писсарро, Сезанн, Клод Моне, Ренуар, Дега и Берта Моризо. Они собирались обычно в кафе Гербуа на улице Батиньоль, 11. Вот почему их называли художниками батиньольской школы. Но это название условно. Собственно школой они не были, у них не было единой программы.
Художники батиньольской школы объединились, когда умер единственный либеральный член официального жюри Делакруа (1863). Они должны были иметь большое мужество, чтобы заниматься живописью без всякой надежды на успех, без каких-либо средств к существованию.
апреля 1874 года в ателье Надара в доме №35 на бульваре Капуцинок открылась выставка "Анонимного общества живописцев, скульпторов и граверов", которую теперь все знают как "Первую выставку импрессионистов". Хотя самого термина "импрессионизм" тогда не существовало. Им мы обязаны именно этой выставке.
Эту выставка не была в полной мере импрессионистической. Во-первых, среди 30 ее участников было несколько имен, которые мало что говорят большинству любителей. Например: Огюст де Молен, Огюст-Луи-Мари и Леон-Огюст Отены, Луи Дебра, Антуан-Фердинан Атендю, Эдуар Бельяр, Станислас-Анри Руар, Захарий Астрюк. Были среди участников выставки и художники, напротив, известнейшие, почитаемые импрессионистами как учителя, но тем не менее никогда не примыкавшие к батиньольцам. Например: Эжен Буден и Камиль Коро. К тому же к этому времени они уже утратили новизну и страсть к экспериментированию, характерную для ведущих членов батиньольской группы. В то же время, один из лидеров батиньольцев Эдуард Мане не принимал участия в этой выставке, как впрочем и во всех последующих выставках импрессионистов. Во-вторых, даже среди тех, кого сегодня считают подлинными импрессионистами, не было необходимой сплоченности и единства художественных принципов. Дега, например, всегда придавал большое значение содержанию и ясному представлению о форме и практически не признавал работы на пленэре. Сезанн не всегда строго следовал принципам реализма. Недаром его причисляют к постимпрессионистической школе.
Тем не менее значение этой выставки трудно переоценить. Выставка впервые открыто объявила о существовании оппозиции официальному салонному искусству, ибо Салон Отверженных <#”justify”>5.1874 – 1877
Всеобщая враждебность не могла поколебать убеждений импрессионистов, но она портила им жизнь. И все же они, ни разу не сворачивая со своего пути, стоически переносили положение, которое вынуждало их творить буквально в пустом пространстве. Если требовалось большое мужество для того, чтобы вступить на путь нищеты, то насколько же больше его требовалось, чтобы в течение многих лет продолжать делать невероятные усилия без какого бы то ни было поощрения. Необходима была большая сила, чтобы преодолеть свои собственные сомнения и продолжать работать, полагаясь только на самого себя. Без колебаний продолжали импрессионисты свою повседневную творческую работу в полной изоляции, подобно труппе актеров, играющей день за днем перед пустым зрительным залом.
Ни одно место, вероятно, не связано так тесно с импрессионизмом, как Аржантей, где в то или иное время фактически работали все друзья и куда, в частности, в 1874 году отправились писать Мане, Ренуар и Моне.
После закрытия их выставки у Моне снова были неприятности с хозяином, и Мане через своих друзей нашел ему в Аржантее новый дом. Ренуар часто посещал его, снова работая рядом с Моне, выбирая те же мотивы, а иногда и сам Мане проводил несколько недель в Аржантее.
Именно в Аржантее, где он наблюдал Моне за работой, Мане окончательно признал работу на пленере. Краски его стали светлее, мазок мельче, но, менее других заинтересованный передачей чистого пейзажа, он предпочитал изучать человеческие фигуры на пленере. Используя друзей в качестве моделей для своих композиций, он помещал их на фоне природы – садов и берегов реки, пытаясь достичь единства фигур с пейзажным окружением. Мане однажды писал в саду у Моне его жену и ребенка, сидящих под деревом, а слева был виден сам Моне. Когда приехал Ренуар и застал Мане за работой, в то время как остальные позировали ему, он не смог устоять перед очарованием этой сцены. Он попросил у Моне его палитру, холст и краски, чтобы написать рядом с Мане тот же мотив. Моне впоследствии вспоминал, что Мане начал наблюдать за Ренуаром „уголком глаза и по временам подходил к его холсту. Затем, сделав гримасу, приблизился ко мне, чтобы прошептать мне на ухо, указывая на Ренуара: „Да у этого юноши совсем нет таланта! Вы же его друг, уговорите его, пожалуйста, бросить живопись".
Ренуар, однако, был очень доволен своим полотном, написанным за один сеанс, и поскольку на нем была изображена жена Моне, он тотчас же подарил его своему другу, который понемногу собрал целую коллекцию портретов Камиллы, выполненных им самим и Ренуаром.
Между этими тремя людьми существовала тесная дружба, пронесенная через все трудные и радостные дни. Тихое обаяние Камиллы, трезвые взгляды Моне и счастливая беззаботность Ренуара придавали этой дружбе особую интимность.
Если Мане недолюбливал Ренуара, хотя, конечно, не всегда так явно выказывал свое раздражение, как в момент соревнования перед одним и тем же мотивом, то он, безусловно, отдавал должное Моне и как человеку и как художнику. Сильный характер Моне и его талант, видимо, производили большое впечатление на Мане и внушали ему восхищение. В то время как Мане ничего не мог поделать с собой и очень заботился об отношении к нему публики, Моне, несмотря на все свои затруднения, проявлял великолепное равнодушие к успеху, и, невзирая на честолюбие, целиком был поглощен своим искусством.
В течение лета, проведенного вместе в Аржантее, Мане написал несколько портретов Моне и его жены, дважды изобразив их в плавучей мастерской Моне. Впоследствии Моне совершал на своей лодке настоящие путешествия и однажды, взяв с собой всю семью, проплыл вниз по Сене до Руана. Во многих картинах, написанных в Аржантее, можно увидеть маленькое суденышко с деревянной кабиной синевато-зеленого цвета, стоящее на якоре среди лениво плывущих лодок.
Хотя Моне нигде не упоминает об этом, но, возможно, что сконструировать лодку помог ему сосед в Аржантее, с которым он познакомился в это время.
Инженер Гюстав Кайботт был специалистом кораблестроителем и владельцем нескольких яхт; в свободное время он также занимался живописью. В результате их общей любви к живописи и к навигации между обоими вскоре возникла настоящая симпатия, которую Кайботт тотчас же распространил на Ренуара, и Ренуар с того времени часто отправлялся с ними в плавание по Сене.
Богатый холостяк, спокойно живущий в окрестностях Парижа, обрабатывая свой сад, занимаясь живописью и конструируя корабли, Кайботт был скромным человеком, но его спокойное существование решительно изменилось под влиянием новой дружбы. Он занял в группе место друга и покровителя. Кайботт начал покупать работы Ренуара и Моне, приобретая их отчасти потому, что они ему нравились, отчасти из желания помочь. А помощь его зачастую была совершенно необходима.
Только Ренуар имел возможность время от времени продавать какие-то картины, потому что, помимо пейзажей, он писал также портреты и обнаженные фигуры, к тому же работы его обладали привлекательностью и очарованием, которые не могли отрицать даже те, кто вообще возражал против импрессионизма.
Художникам всё труднее и труднее становилось продавать свои работы, цены на всё неустанно возрастали, угрожая их существованию.
Финансовое положение ассоциации, основанной художниками в начале года, тоже пострадало от общего кризиса. 10 декабря 1874 года Ренуар в письменной форме пригласил всех участников Анонимного общества художников, живописцев, скульпторов, граверов и пр. на общее собрание, которое должно было состояться в его мастерской на улице Сен-Жорж, 35. Ренуар поставил всех участников собрания в известность, что по уплате всех внешних долгов задолженность общества все еще равнялась 3713 франкам, в то время как в кассе оставалось только 277,99 франков. Таким образом, каждый член общества должен был дополнительно внести сумму в 184,5 франка для оплаты внутренних долгов и восстановления общего фонда. При таком положении вещей ликвидация общества оказалась неизбежной. Это предложение было поставлено на голосование и принято единогласно. Было решено, что сделанные участниками взносы за следующий год будут им возвращены.
В связи с отчаянным положением Ренуар убедил Моне и Сислея, что наилучший путь заработать немного денег – это устроить распродажу их картин с аукциона в отеле Друо. Они пришли к этому решению в силу того, что ликвидация их общества и многочисленные новые трудности делали невозможной следующую выставку группы раньше осени 1875 года; видимо, они были не в состоянии ждать так долго. Сислей, происходивший из богатой семьи, стал свидетелем того, как его отец, в результате неудачных деловых операций и потерь, нанесенных войной и Коммуной, лишился состояния. Сейчас Сислей был так же беден, как остальные, и должен был содержать жену и двоих детей. К трем друзьям присоединилась Берта Моризо, которая в декабре 1874 года вышла замуж за брата Мане Эжена. По существу, она не нуждалась в деньгах, но не хотела оставаться в стороне, в то время как ее коллег ожидали новые испытания. Решив разделить с ними все, что ни уготовит им судьба, Берта Моризо смело приняла участие в этом рискованном предприятии.
Для того чтобы помочь им привлечь общественное внимание, Мане, по просьбе друзей, написал письмо Альберу Вольфу – критику Figaro, которого все очень боялись, охотно читали, но не любили, и который называл себя самым остроумным человеком в Париже. Его острый язык в то время мог создать человеку репутацию или погубить ее. Заметка, которая впоследствии появилась в Figaro, едва ли оправдала ожидания Мане. Возможно, что это неплохое дело для тех, кто собирается спекулировать на искусстве будущего, – гласила она, – но со следующей оговоркой: импрессионисты производят то же впечатление, какое производит кошка, разгуливающая по клавишам пианино, или обезьяна, случайно завладевшая коробкой красок.
Аукцион состоялся 24 марта 1875 года. Всего было представлено семьдесят три картины, из которых двадцать одна принадлежала Сислею, двадцать Моне, двадцать Ренуару, двенадцать Берте Моризо.
Распродажа, которой в качестве эксперта официально содействовал Дюран-Рюэль, превратилась в зрелище беспримерной жестокости. Аукционер, судя по его воспоминаниям, вынужден был вызвать полицию, чтобы помешать перебранкам перейти в настоящую драку. Публика, раздраженная заступничеством немногочисленных защитников несчастных участников выставки, хотела сорвать продажу и выла при каждом предложении цены. Не имея возможности купить что-либо для себя, Дюран-Рюэль был бессильным свидетелем этого зрелища и видел, как картины его друзей фактически продаются за бесценок. Однако ему удалось выкупить для них какое-то число картин, когда предложенные цены едва покрывали стоимость рамы.
Относительно высокие цены получила Берта Моризо, в среднем по 250 франков за картину; из предложенных цен самая высокая была 480, самая низкая 80 франков. У Моне цены колебались от 165 до 325 франков, у Сислея от 50 до 300. Ренуар, как ни странно, получил самые низкие. Десять его картин не дотянули даже до 100 франков, и некоторые из них ему пришлось выкупить. В результате распродажи чистых осталось 11491 франк, включая стоимость картин, выкупленных самими художниками.
Таким образом, средняя цена за картину равнялась 163 франкам, и художники не только стали свидетелями того, как их работы продавались в два раза дешевле, чем раньше, но снова оказались мишенью для насмешек и оскорблений.
Среди немногих друзей, которые старались поднять цены и купили несколько картин, были Дюре и Кайботт. Но среди покупателей оказался также никому не известный человек, некий Виктор Шоке. Впоследствии он рассказывал, что хотел посетить выставку у Надара, но друзья убедили его не ходить. Они не сумели, однако, помешать ему прийти на этот аукцион, где он купил один из видов Аржантея Моне. Когда позднее он был представлен художнику, то со слезами на глазах сказал: Подумать только, что я потерял целый год, ведь я мог познакомиться с вашей живописью на целый год раньше! Как могли лишить меня такого удовольствия!
Скромный инспектор таможенного управления, Шоке имел душу подлинного коллекционера. Предпочитая делать открытия для самого себя, руководствуясь только собственным вкусом и удовольствием, он никогда не помышлял о спекуляции и совершенно не интересовался тем, что делают или думают другие.
Хотя его средства были весьма ограниченны, он за долгие годы любовно собрал на редкость богатую коллекцию работ Делакруа. Он никак не мог забыть, что тринадцать лет тому назад стареющий Делакруа отказался написать портрет его жены, и поэтому на этот раз не хотел рисковать. Обнаружив в работах Ренуара качества, напоминавшие ему его божество, он в тот же вечер после аукциона написал ему. Ренуар тотчас же откликнулся. Вскоре после этого он встретился с Шоке в его квартире на улице Риволи, окна которой выходили в Тюильрийский сад, для того чтобы договориться о сеансах.
Коллекционер просил его усадить жену на фоне стены, таким образом, чтобы в портрет попала одна из картин Делакруа. Я хочу иметь обоих вместе, вас и Делакруа, – объяснил он.
Ренуар был глубоко тронут искренностью, энтузиазмом и теплым отношением Шоке. Скоро между ними возникла тесная дружба, и Ренуар впоследствии написал два портрета самого коллекционера. Художник страстно желал познакомить нового покровителя со своими друзьями. Так развито было у них чувство товарищества, что ни один из них не думал только о себе, а всегда старался, чтобы и другие извлекли пользу из нового знакомства. Какую бы настоятельную необходимость продать картину ни испытывал любой из них, он, не задумываясь, делил с остальными членами группы выгоду от вновь найденного покупателя и даже советовал им, какие цены можно запрашивать.
Сам Мане иногда вывешивал у себя в мастерской картины своих коллег, где их могли увидеть возможные покупатели. И для Ренуара было совершенно естественным привести Шоке в маленькую лавочку Танги, чтобы показать ему несколько картин Сезанна.
Как бы сильно ни восхищался Шоке и Ренуаром, и Моне, в подлинном восторге он был от Сезанна, который написал несколько его портретов, но еще не сделал ни одного портрета его жены. За долгие годы их дружбы Шоке к своей коллекции Делакруа, добавил значительное количество работ Сезанна, а затем дополнил ее и некоторым количеством работ других импрессионистов, в частности Ренуара и Моне.
В апреле 1876 года он, возмущенный отклонением своих картин Салоном, пригласил публику к себе в мастерскую, где выставил отвергнутые полотна.
Импрессионисты, как и Мане, открыли свою выставку в апреле, в галерее Дюран-Рюэля, на улице Лепелетье. Она состояла из двухсот пятидесяти двух картин, пастелей, акварелей, рисунков и офортов двадцати художников. На этот раз, каждый художник решил сгруппировать свои произведения, вместо того чтобы развешивать их вперемежку с другими.
На выставку пришло меньше посетителей, чем в прошлый раз, но пресса была в такой же ярости, как и прежде. Хотя и появились критики, пытавшиеся в своих обозрениях отдать должное художникам, всё же общее отношение отразилось в широко читаемой статье Альбера Вольфа: Улице Лепелетье не повезло, – писал он в Figaro. – После пожара Оперы на этот квартал обрушилось новое бедствие. У Дюран-Рюэля только что открылась выставка так называемой живописи. Мирный прохожий, привлеченный украшающими фасад флагами, входит, и его испуганному взору предстает жуткое зрелище: пять или шесть сумасшедших – среди них одна женщина – группа несчастных, пораженных манией тщеславия, собралась там, чтобы выставить свои произведения.
Многие лопаются от смеха перед их картинами, я же подавлен. Эти так называемые художники присвоили себе титул непримиримых, импрессионистов; они берут холст, краски и кисть, наудачу набрасывают несколько случайных мазков и подписывают всю эту штуку… Это ужасающее зрелище человеческого тщеславия, дошедшего до подлинного безумия. Заставьте понять господина Писсарро, что деревья не фиолетовые, что небо не цвета свежего масла, что ни в одной стране мы не найдем того, что он пишет и что не существует разума, способного воспринять подобные заблуждения… В самом деле, попытайтесь вразумить господина Дега, скажите ему, что искусство обладает определенными качествами, которые называются – рисунок, цвет, выполнение, контроль, и он рассмеется вам в лицо и будет считать вас реакционером. Или попытайтесь объяснить господину Ренуару, что женское тело это не кусок мяса в процессе гниения с зелеными и фиолетовыми пятнами, которые обозначают окончательное разложение трупа!..
Вторая выставка мало чем изменила, вернее совсем не изменила их положения. Наоборот, некоторые внутренние разногласия начали ощущаться сильнее и превратились в серьезную угрозу их единству.
Третья выставка импрессионистов была организована не в 1878 году, как предполагалась, а уже весной 1877 года и исключительно благодаря неутомимой энергии и упорству Кайботта. Все помещения Дюран-Рюэля были сданы в аренду на год, и художники не могли найти помещение для выставки. В конце концов нашлось пустое помещение во втором этаже дома по улице Лепелетье, той самой улице, где были расположены галереи Дюран-Рюэля. Большие и хорошо освещенные комнаты с высокими потолками имели длинные стены, вполне подходящие для данной цели. Кайботт, который был знаком с владельцем помещения, внес вперед деньги за аренду.
В выставке 1877 года принимали участие только восемнадцать художников. Выставлено было более двухсот тридцати произведений, так как каждый из импрессионистов представил на этот раз большее число работ, чем в предыдущий.
Открытие выставки состоялось в начале апреля. Посещаемость была очень большая, и публика, казалось, насмехалась меньше, чем на прошлых выставках. Но газеты, за немногим исключением, в дни выставки соперничали друг с другом в глупых нападках и пошлых шуточках и в однообразном повторении своих прежних замечаний. Художники, которые рассчитывали, что их повторные выступления смогут побороть всеобщую враждебность и помогут им хотя бы заслужить внимание, достойное каждой серьезной попытки, вскоре снова встретились с издевающейся толпой. Веселье публики в особенности вызывали работы Сезанна. Никто не был так взбешен отношением публики, как Виктор Шоке, проводивший на выставке все время.
После закрытия выставки 30 апреля друзья снова решили устроить распродажу. Ни Берта Моризо, ни Моне не принимали в ней участия. Вместо них на этот раз участвовал Писсарро, а также Кайботт, у которого не было для этого иных оснований, кроме желания разделить общую участь. Как и следовало ожидать, результаты второй распродажи мало чем отличались от первой.
К этому времени импрессионизм стал довольно известным явлением в Париже. Газеты печатали карикатуры на художников-импрессионистов, и они стали даже предметом насмешек на сцене.
Невзирая на то, что публика смотрела на импрессионистов как на художников «забавных» или «непонятных», группа пополнилась двумя «новобранцами». Одним из них была молодая американская художница Мери Кассат, другим – служащий парижского банка Поль Гоген.
6.Серьёзные разногласия
В 1879 году Ренуар и Сислей отправили работы в Салон. Так же поступил и Сезанн, а когда Писсарро пригласил его участвовать в новой групповой выставке, то получил ответ: Я думаю, что из-за всех трудностей, возникших в связи с моим обращением в Салон, мне лучше не участвовать в выставке импрессионистов.
Несмотря на отсутствие Ренуара, Сислея, Сезанна и Берты Моризо (не выставлявшейся из-за беременности), друзья решили устроить четвертую выставку, которая должна была состояться на авеню Оперы, 28. На этот раз, по настоянию Дега, было решено опустить в объявлениях слово „импрессионисты". Дега вначале предложил компромисс, составив афишу следующего содержания: «Четвёртая выставка группы независимых художников реалистов и импрессионистов». Но чтобы не усложнять, решили говорить просто о группе независимых художников.
На этот раз было всего пятнадцать участников выставки. В самую последнюю минуту появился новичок, ставший шестнадцатым участником и представивший одну маленькую статуэтку. Но было слишком поздно, и его не смогли упомянуть в каталоге; это был Поль Гоген.
апреля 1879 года, в день открытия, к пяти часам билетов было продано больше чем на 400 франков. Пресса снова была враждебна, но посетители приходили в большом количестве. Выручка была хорошая, эта выставка заработала около 10500 франков. Что же касается публики, то она неизменно была в веселом настроении. Люди приходили развлекаться.
Когда 11 мая выставка закрылась, то после покрытия всех расходов осталось еще 6000 франков. Некоторые из участников хотели сохранить их как резерв для будущих выставок, но большинство голосовало за то, чтобы распределить эти деньги. Каждый участник выставки получил по 439 франков.
Тем временем открылся Салон. Сезанн еще раз был отвергнут, так же как и Сислей, но Мане и Ренуар были представлены. Критики единодушно шумно одобрили портрет госпожи Шарпантье с двумя дочерьми, впервые Ренуар мог почувствовать, что он почти у цели. Он имел в Салоне большой успех.
Внезапный успех Ренуара в Салоне должен был сильно повлиять на Моне. Видя перед собой примеры Ренуара и Сислея, он начал задумываться, не была ли бесплодной их борьба за независимость и можно ли будет достичь когда-нибудь успеха вне Салона. Не отказаться ли и ему от добровольно принятых правил группы? Но Моне был одним из самых стойких сторонников выставок импрессионистов, фактически их инициатором. Противодействовать жюри было для него больше чем необходимостью – это было частью его веры. Отказаться сейчас от этих принципов, значило признать свое поражение. Однако, кроме принципа, существовала также проблема будущего. Более двадцати лет трудился он, не заслужив благосклонности публики, и даже в какой-то мере потеряв ее симпатии, которые завоевал было вначале. Мог ли он позволить себе сознательно продолжать идти тем путем, который лишал его уважения большинства? Настало время, когда надо было ловить успех, невзирая на то, кто его предлагает, а поскольку Салон, казалось, обещал большую удачу, у него не оставалось другого выхода, как искать ее там. Поэтому Моне решил в 1880 году представить две картины в Салон.
Решение Моне встретило глубоко презрительное отношение со стороны Дега. Отвечая великолепным безразличием на доводы, приводимые Моне, Дега видел только его измену, его отвратительный компромисс с официальным искусством. Он обвинял Моне в «безудержной рекламе» и отказался иметь с ним что-либо общее.
Из первоначальной группы сейчас остались только Писсарро, Берта Моризо, Дега, Кайботт, Гийомен и Руар. За исключением Писсарро, никто из них не зависел от продажи картин, и их презрение к жюри, как оно ни было превосходно, не имело ничего общего с героизмом Писсарро, который, отказываясь от возможного участия в Салоне, обрекал себя на бесконечную нищету.
При отсутствии Моне, Ренуара, Сислея и Сезанна пятая выставка группы, организованная в 1880 году, по существу уже не была выставкой импрессионистов. В ней участвовали Бракмон и его жена, Кайботт, Гийомен, Лебур, Берта Моризо, Дега и его друзья – мисс Кассат, Форен, Левер, Руар, Зандоменеги, Тилло, а также приглашенные им новички Рафаэлли и Видаль; наконец, там был Писсарро, который впервые представил Гогена и третьего новичка – Виньона.
Публики было меньше, чем прежде. Первое потрясение, вызванное импрессионистами, прошло, и враждебность публики сменилась безразличием. Критики, симпатизирующие группе, начали отличать тех участников выставки, которые были подлинными импрессионистами, от других, не имевших ничего общего с этим направлением. Выставка явно распалась на две противоположные группы, и та, что включала Писсарро, Берту Моризо, Гийомена и Гогена, по-видимому, была меньшей.
Если импрессионизм не доминировал уже на выставке группы, то в Салоне ему тоже не повезло. Наиболее значительный из двух пейзажей, предложенных Моне, – Ледоход на Сене – был отвергнут. Две картины Ренуара были приняты, но только одна из них, девушка, уснувшая на стуле с кошкой на руках, была характерна для его импрессионистского стиля. Мане выставил довольно условный портрет своего друга Антонена Пруста, в то время члена французской палаты депутатов, и двойной портрет У папаши Латюиль, написанный на пленере. Сислей не был представлен.
Было что-то трагическое в тех недоразумениях, в том непонимании, которые медленно, но верно отрывали бывших друзей друг от друга. Распад группы импрессионистов в дальнейшем был подчеркнут Моне, который сказал: Я импрессионист и намерен всегда им оставаться… Но только я очень редко встречаю истинных соратников. Небольшая группа превратилась в банальную школу, которая теперь открывает свои двери каждому встречному пачкуну. Трудно решить, имел ли он в виду Рафаэлли или Гогена, но факт тот, что высказывания Моне, конечно, не могли помочь ему наладить отношения с остальными.
В сложившихся обстоятельствах только два человека остались всей душой преданными общему делу – Писсарро и Кайботт. Но когда в январе 1881 года они начали обсуждать возможность новой групповой выставки, то даже они не могли найти общий язык. Кайботт возмущался тем, что Дега навязывал группе своих друзей, он негодовал по поводу жалких вкладов, которые сам Дега делал в их выставки, и чувствовал себя обиженным той манерой, в какой Дега осуждал Моне и Ренуара за их участие в Салоне. Поэтому он предложил избавиться от Дега и его кружка, надеясь, что это может заставить Моне и Ренуара вернуться к ним.
Шансы на устройство шестой групповой выставки были весьма слабыми, и все же она была организована, несмотря на отсутствие Ренуара, Моне, Сислея, Сезанна, а на этот раз и Кайботта. Она была открыта в течение апреля месяца 1881 года опять у Надара на бульваре Капуцинок, 35, но была очень мало похожа на первую выставку импрессионистов. Дега прислал всего с полдюжины, работ (большей частью наброски) и свою статуэтку маленькой балерины. Берта Моризо выставила очень немного. Мери Кассат выставила этюды детей, интерьеры и виды садов. Писсарро был представлен двадцатью картинами и семью пастелями.
Две резко противоположные группы были представлены на выставке 1881 года: Писсарро, Берта Моризо, Гийомен, Гоген и Виньон, с одной стороны, Дега, Мери Кассат, Форен, Рафаэлли, Руар, Тилло, Видаль и Зандоменеги – с другой. А третья группа состояла из тех, кто выставлялся или пытался выставиться в Салоне, – Ренуар, Моне, Сислей и Сезанн. Все признаки свидетельствовали о том, что группы импрессионистов больше не существовало.
7.Дальнейшие выставки и расхождение мнений
В конце 1881 года Кайботт снова взялся за устройство выставки своих друзей. Он встретился с Руаром, который обещал убедить Дега расстаться с Рафаэлли. Но его попытки окончились неудачей. Гоген также отказался, так как не хотел иметь ничего общего с Рафаэлли. Ему нелегко было прибегнуть к таким мерам, так как он был в высшей степени заинтересован в выставках группы. Для него эти выставки были единственной возможностью показать свою работу, которая мало-помалу начала поглощать большую часть его энергии. В связи с требованиями, предъявленными Гогеном и Кайботтом, Писсарро очутился в тяжелом положении. Нельзя было отрицать, что после последовательных отказов со стороны Сезанна, Сислея, Ренуара, Моне, Кайботта, затем Гогена и, возможно, Гийомена, он и Берта Моризо окажутся единственными представителями импрессионизма в группе, наводненной адептами Дега.
Кайботт предложил устроить выставку без Дега, собрав Писсарро, Моне, Ренуара, Сезанна, Сислея, Берту Моризо, Гогена, а также пригласив мисс Кассат, если она согласится выставляться без Дега. Писсарро отправился приглашать Берту Моризо. Тем временем Кайботт написал Моне, который работал в Дьеппе и, не обещая своего участия, ответил, что выставка должна быть хорошо организована либо ее вовсе не нужно устраивать. Ренуар сообщил, что болен и не может приехать; он, по-видимому, тоже не выражал желания участвовать в ней.
Расстроенный неудачей, Кайботт готов был отказаться от выставки. Очевидно, в этот момент Дюран-Рюэль взял дело в свои руки. Поскольку он снова был торговцем, продававшим исключительно картины импрессионистов, он был не только раздосадован их раздорами, но и действительно заинтересован в предполагаемой выставке. Он сам написал теперь Моне и Ренуару, понуждая их присоединиться к остальным. Ренуар ответил, что он готов последовать за Дюран-Рюэлем, какое бы тот ни задумал предприятие, но отказывается иметь дело со своими коллегами. Он был зол из-за того, что выставка обсуждалась без него, что он не был приглашен участвовать в трех предыдущих выставках, а также потому, что подозревал, что сейчас его пригласили только для того, чтобы заполнить брешь. Он написал несколько раздраженных писем Дюран-Рюэлю, объясняя, что он снова выставляется в Салоне и отказывается участвовать в какой бы то ни было выставке так называемых „независимых".
Вначале он согласился с предложением создать группу, в которую бы входили только Моне, Сислей, Берта Моризо, Писсарро и Дега, но высказывал недоверие к Гогену и Писсарро, сделав несколько нелестных замечаний в адрес последнего и обвинив его в конце концов в политических и революционных тенденциях, с которыми он не желал иметь ничего общего. Однако он уполномочивал Дюран-Рюэля выставлять его картины, владельцем которых тот является, при условии, что они будут числиться предоставленными Дюран-Рюэлем, а не им самим.
Ответ Моне был примерно таким же. Он отказался присоединиться к художникам, не принадлежащим к группе подлинных импрессионистов. Но под давлением Дюран-Рюэля тоже почувствовал себя неловко и не смог отказаться от приглашения человека, который так много сделал для него и его товарищей. Поскольку Писсарро ходатайствовал, чтобы вместе со старожилами допустили к участию в выставке трех его друзей – Гийомена, Гогена и Виньона, Моне уточнял, что ничего не имеет против этих трех человек, но чувствует себя обязанным Кайботту.
В конце концов Кайботт и друзья Писсарро были допущены; Берта Моризо согласилась, так же как и Сислей; Моне тоже дал согласие участвовать в выставке, а вместе с ним и Ренуар, который даже извинился за кое-какие ядовитые замечания, сделанные во время болезни. Что же касается Дега, то он отказался участвовать в выставке, так как были отстранены его последователи. Мери Кассат и Руар отступили вместе с Дега. Мане ответил обычным отказом.
Выставка открылась 1 марта 1882 года на улице Сен-Оноре, 251, в помещении, снятом Дюран-Рюэлем. Никогда еще импрессионисты не устраивали выставку, на которой было бы так мало чуждых элементов, никогда они еще так полно не представляли самих себя. После восьми лет общей борьбы они в первый раз умудрились сделать выставку, которая по-настоящему представляла их искусство. Моне выставил тридцать пять картин, в большинстве своем пейзажи и натюрморты. Писсарро показал двадцать пять картин и одиннадцать гуашей. Вклад Ренуара составляли двадцать пять полотен, среди них „Завтрак гребцов". Сислей был представлен двадцатью семью работами, Берта Моризо – девятью, Гоген – тринадцатью, Кайботт – семнадцатью, Виньон – пятнадцатью и Гийомен тринадцатью картинами и таким же числом пастелей.
В каталоге значилось очень небольшое количество владельцев, большинство выставленных картин принадлежало Дюран-Рюэлю, который вскоре имел все основания быть довольным.
Пресса на этот раз была менее агрессивна, появился даже ряд хвалебных заметок, и подвернулось несколько новых покупателей.
В Салоне 1882 года Мане выставил большую картину „Бар в Фоли-Бержер", импозантную композицию, написанную с необычайной виртуозностью. Он еще раз показал силу своей кисти, тонкость наблюдений и смелость не следовать шаблону. Подобно Дега, он продолжал проявлять неизменный интерес к темам современности, но подходил к ним не как холодный наблюдатель, а с горячим энтузиазмом исследователя новых явлений жизни. Бар в Фоли-Бержер стоил Мане больших усилий, так как он начал жестоко страдать от атаксии. Он был разочарован, когда публика снова отказалась понять его картину, воспринимая лишь сюжет, а не мастерство исполнения. После закрытия Салона Мане наконец был официально объявлен кавалером Почетного легиона.
В начале 1883 года силы начали заметно покидать Мане и он вынужден был слечь в постель. В результате паралича левой ноге его угрожала гангрена, и, чтобы предотвратить ее, хирурги предлагали ампутацию. В апреле его оперировали, но ампутация уже не могла спасти ему жизнь. Мане умер 30 апреля 1883 года.
Похороны состоялись 3 мая. Гроб несли Антонен Пруст, Клод Моне, Фантен-Латур, Альфред Стевенс, Эмиль Золя, Теодор Дюре и Филипп Бюрти. Среди присутствующих были Писсарро, Сезанн и, несомненно, Берта Моризо, потерявшая в нем больше чем шурина. Некролог Альбера Вольфа не удовлетворил бы Мане; он был крайне сдержанным. Вольф считал, что из всего созданного Мане только две картины могут быть приняты в Лувр: Умереть в пятьдесят лет, – заключал он, – оставив два прекрасных произведения, достойные того, чтобы быть помещенными среди лучших достижений французской живописи, это достаточно большая честь для художника.
Вскоре, однако, можно было заметить разительную перемену в общем отношении к художнику. Цены на его картины начали расти, и меньше чем через год после его смерти была подготовлена (при неустанном содействии Берты Моризо и ее мужа) большая посмертная выставка, которая состоялась ни больше, ни меньше как в Школе изящных искусств.
Понемногу начали сказываться последствия нового удара, пережитого Дюран-Рюэлем; он больше не мог ни регулярно платить художникам, ни покупать их картины. Но он делал все возможное, чтобы удержаться на поверхности. В марте Дюран-Рюэль открыл выставку произведений Моне, в апреле – Ренуара, в мае-июне 1883 года – Писсарро и Сислея. В то же самое время он выставил ряд их картин в Лондоне и намечал также другие выставки за границей. Однако они не возбудили интереса, а так как теперь Дюран-Рюэль запрашивал более высокие цены – за многие картины свыше тысячи франков, – то не нашлось и покупателей.
Потерпев фиаско, художники снова пришли в мрачное настроение. Особенно был подавлен Моне, так как никогда раньше его работы не встречали такого безразличия.
Когда многочисленные попытки Дюран-Рюэля не принесли плодов, художники еще раз испытали лихорадочную неопределенность. Они снова должны были занимать деньги, если было где их занять, терять дни и недели, гоняясь за возможными покупателями, просить друзей приобрести их картину на унизительных условиях, полагаться на щедрость Кайботта и некоторых других и самое страшное, – работать, не имея душевного покоя. Сверх того, большинство из них испытывало глубокое неудовлетворение от своей работы.
Ренуара в это время одолевали сомнения. Изучение Рафаэля и помпейских фресок произвело на него большое впечатление, и он начал задумываться, не слишком ли он пренебрегал рисунком. Около 1883 года, – признавался он впоследствии, – в моем творчестве произошло что-то вроде перелома. Я достиг конца импрессионизма и пришел к заключению, что не умею ни писать, ни рисовать. Одним словом, я зашел в тупик.
Он уничтожил ряд своих полотен и взялся за работу с намерением приобрести мастерство, которое у него, по его мнению, отсутствовало. Обратившись к линии как дисциплинирующему началу, он стал упрощать формы за счет цвета. Ища по временам простую линию, по временам изысканную, он пытался заключить трепещущие формы в строгие контуры. При этом ему не всегда удавалось полностью избежать опасности жесткости и сухости.
За руководством Ренуар снова обратился к работам мастеров прошлого, к музею. Он вспомнил, как Коро однажды говорил ему, что никогда нельзя быть уверенным в том, что делаешь на открытом воздухе, что всегда нужно еще раз пересмотреть все в мастерской. Он начал понимать, что, работая на пленере, был слишком занят явлениями света, чтобы уделять достаточное внимание другим проблемам. Так велико было его разочарование в своих прежних достижениях, что его охватила подлинная ненависть к импрессионизму. В виде протеста он написал несколько картин, в которых каждая деталь, включая листья деревьев, была сначала тщательно нарисована на холсте, прежде чем он взял кисти и добавил цвет.
Подобно Ренуару, Моне тоже был разочарован в своих работах и во время внезапного приступа неудовлетворенности уничтожил несколько полотен; впоследствии он пожалел о своем поступке. Моне начал перерабатывать многие из своих последних картин, постоянно стремясь улучшить их.
В декабре 1883 года Моне и Ренуар вместе отправились в кратковременную поездку на Лазурный берег в поисках новых мотивов. Моне был тотчас же захвачен красотой голубых и розовых красок. Он решил вернуться туда в начале будущего года, но решил никому не открывать своих планов, так как всегда лучше работал в одиночестве. Прежняя солидарность в работе исчезла. Разлад между художниками уже не был вопросом личного антагонизма, они покидали общую почву и продолжали поиски в различных направлениях.
В 1885 году Моне решил участвовать в «Международной выставке» у Пти. Дюран-Рюэль, естественно, не одобрил перехода Моне в лагерь его самого опасного соперника; Моне же доказывал, что всем художникам следовало бы развязаться со своим торговцем. Восхищаясь мужеством Дюран-Рюэля и его преданностью, Моне в то же время чувствовал, что публика не доверяет Дюран-Рюэлю, потому что только он один занимается продажей картин импрессионистов. Установив связь с другими торговцами, он надеялся убедить публику, что импрессионизм не был просто причудой Дюран-Рюэля. Ренуар вскоре последовал примеру Моне, а Сислей и Писсарро согласились с его доводами.
Когда осенью 1885 года Дюран-Рюэль получил приглашение от „Американской ассоциации искусства" организовать большую выставку в Нью-Йорке, он ухватился за эту возможность с решимостью отчаяния. Но художники не выказали большой уверенности. Почему американцы должны были проявить больше понимания и симпатии, чем их соотечественники? И в то время как Дюран-Рюэль собирался отобрать триста лучших их работ, они начали обсуждать возможность новой групповой выставки. С 1882 года еще не было ни одной.
Писсарро настаивал, чтобы новая выставка не состояла исключительно из тех, кого он называл „стихия Дюран-Рюэля". Он хотел представить своим друзьям двух молодых художников, с которыми недавно встретился.
В мастерской Гийомена незадолго до этого он познакомился с Полем Синьяком, который тотчас же представил ему своего товарища Жоржа Сёра. В разговорах с этими молодыми людьми Писсарро обрел новые концепции и нашел новый конструктивный элемент, который он искал. В их теориях он нашел научные методы, дающие возможность управлять своими ощущениями и заменять интуитивный подход к природе строгим соблюдением законов цвета и контрастов.
Сёра и Синьяк встретились всего лишь год назад, в 1884 году, когда жюри Салона сделало очередную попытку задушить все, что не было ортодоксальным, и когда сотни отвергнутых художников собрались вместе и основали „Общество независимых художников". Эта новая ассоциация, сознательно или несознательно присвоившая название, под которым несколько лет выставлялись импрессионисты, торжественно обещала устраивать регулярные выставки без вмешательства какого бы то ни было жюри. Так, спустя более двадцати лет после „Салона отверженных", наконец было основано постоянное учреждение, которое выступило против обид, чинимых жюри, и открыло двери всем без исключения художникам.
Поль Синьяк очень рано увлекся искусством. Он копировал произведения Мане и на четвертой выставке импрессионистов, когда ему было пятнадцать лет, начал копировать наброски Дега.
Сёра, четырьмя годами старше Синьяка, несколько лет проучился в Школе изящных искусств. У него появилась мысль примирить искусство с наукой, мысль, характерная для общего направления времени, стремящегося интуицию заменить знанием и применить результаты неустанных исследований ко всякому роду деятельности. Сёра ограничил свою палитру кругом четырех основных цветов и промежуточных тонов. Синий, фиолетово-синий, фиолетовый, фиолетово-красный, красный, красно-оранжевый, оранжевый оранжево-желтый, желтый, желто-зеленый, зеленый, зелено-синий и снова синий. Эти цвета он смешивал с белым, но чтобы гарантировать господство яркого света, цвета и гармонии, он никогда не смешивал эти краски между собой. Вместо этого он предпочитал использовать мелкие точки чистого цвета, помещенные близко друг к другу так, чтобы они смешивались оптически, то есть в глазу зрителя, находящегося на соответствующем расстоянии. Этот метод он называл «дивизионизмом».
Он заменил «беспорядочность» мазков импрессионистов тщательным размещением аккуратно наложенных точек, что сообщало его работам известную строгость, атмосферу покоя и устойчивости. Отказавшись от непосредственного выражения ощущений, провозглашаемого импрессионистами, не оставляя ничего случайного, он нашел в соблюдении законов оптики новое дисциплинирующее средство, возможность новых достижений.
Свои большие полотна Сёра писал в мастерской. В этих картинах он, в противоположность импрессионистам, не стремился удержать ускользающие впечатления, а старался превратить все, что он видел на месте, в строго рассчитанную гармонию линий и красок. Отбрасывая несущественное, подчеркивая контуры и структуру, он отказывался от чувственной прелести, которая привлекала импрессионистов. Он уже не стремился запечатлеть вид пейзажа в определенный час, он пытался зафиксировать его силуэт в течение целого дня.
Писсарро тотчас же был захвачен теориями и техникой Сёра и без всякого колебания принял его взгляды. Присоединившись к Сёра и Синьяку, Писсарро начал считать своих прежних товарищей „романтическими импрессионистами", подчеркивая таким образом принципиальную разницу между ними и новой группой „научных импрессионистов".
8.Восьмая и последняя выставка импрессионистов
Берта Моризо и ее муж Эжен Мане в начале 1886 года взяли на себя труд посетить своих друзей и начать переговоры о новой групповой выставке: Писсарро уже раньше советовался с мисс Кассат и Моне.
Задача эта была особо сложной, потому что на этот раз не только стоял вечный вопрос о Дега и его окружении, но налицо было также требование Писсарро допустить к участию в выставке Сёра и Синьяка, требование, не встретившее сочувствия. Кроме того, Дега настаивал, чтобы выставка была открыта с 15 мая по 15 июня, то есть одновременно с официальным Салоном, а остальным это казалось абсурдом. В феврале дела окончательно зашли в тупик, и Берта Моризо и Моне, казалось, потеряли надежду.
Гийомен попытался стать посредником между различными партиями. Трудность для него, так же как для Писсарро, заключалась в том, что если отпадут Дега, мисс Кассат и Берта Моризо, то не останется почти никого, кто бы мог внести вперед необходимые деньги и пожертвовать ими в случае возможных потерь. Когда вновь начались обсуждения, они вскоре сконцентрировались на вопросе: допускать или нет большую картину Сёра „Гранд-Жатт".
В конце концов было решено, что Писсарро и его друзья будут выставляться в отдельной комнате. Кроме картин Писсарро, Сёра и Синьяка в этой комнате должны были появиться первые картины сына Писсарро Люсьена, следовавшего по пути своего отца и Сёра.
Среди других участников выставки был Гоген, который, несмотря на невероятные трудности, упрямо продолжал работать, и к новой выставке у него был готов ряд картин. Гоген представил художникам своего друга и бывшего коллегу по банку Шуффенекера. Берта Моризо и ее муж дали согласие допустить на выставку его работы.
Неизвестно, заставило ли Моне отказаться от участия в выставке включение Гогена и Шуффенекера, но вернее всего, что это решение было подсказано ему участием Сёра и Синьяка. Кайботт встал на сторону Моне. После некоторого колебания Ренуар тоже сообщил, что не будет принимать участия, следом за ним отказался присоединиться к остальным и Сислей. Моне и Ренуар решили вместо этого выставляться на „Международной выставке" у Пти, так же как и Рафаэлли. Рафаэлли, бесспорно, понял, что импрессионисты не заинтересованы в его участии и, со своей стороны, тоже, видимо, счел их общество компрометирующим. Дега, наконец, отказался от Рафаэлли и на этот раз охотно, так как теперь его никто об этом не просил.
В то время как художники деятельно готовились к восьмой выставке, Дюран-Рюэль собрал триста картин, которые намеревался везти в Америку. Писсарро удалось убедить его включить несколько работ Синьяка и Сёра; последний вручил торговцу свое „Купание", выставлявшееся в первом „Салоне независимых". В марте 1886 года Дюран-Рюэль отбыл в Нью-Йорк с очень хорошим подбором картин из своей большой коллекции. От успеха этого предприятия зависело не только его собственное будущее, но в какой-то мере и будущее опекаемых им художников.
Тогда как выставка Дюран-Рюэля в Нью-Йорке была названа „Работы маслом и пастелью импрессионистов Парижа", сами художники еще раз изгнали слово „импрессионизм" со своих афиш и назвали свою выставку „Восьмая выставка картин". Она должна была длиться с 15 мая по 15 июня и помещалась над рестораном „Мезон Доре", в здании, стоящем на углу улицы Лафитт и Итальянского бульвара.
Дега выставил две пастели, изображающие женщин в шляпной мастерской (Мери Кассат иногда позволяла ему сопровождать себя, когда ходила примерять шляпы), и серию, состоящую из семи пастелей, озаглавленную „Серия обнаженных женщин – купающихся, моющихся, вытирающихся, причесывающих волосы или сидящих за туалетом в то время, как их причесывают". В этих пастелях он попытался подойти к изображению обнаженных с совершенно новой точки зрения. Вместо того, чтобы показывать обнаженные модели сознающими свою наготу и в позах, выбранных художником, Дега предпочитал наблюдать их естественную обнаженность – как бы подсматривая в замочную скважину. Он установил в мастерской ванны и тазы и наблюдал, как его натурщицы занимались купанием и уходом за собой.
Выставка, на которой импрессионизм был представлен лишь Бертой Моризо, Гийоменом и Гогеном, вызвала много дискуссий. В то время как некоторые посетители были шокированы обнаженными женщинами Дега и объявляли их непристойными, большая часть публики была заинтригована и забавлялась работами Сёра и его последователей; работы эти висели в слишком узкой комнате, где их трудно было смотреть. Немногие признавали исключительную оригинальность этих картин, и когда бельгийский поэт Верхарн с восторгом говорил о них некоторым художникам, они хохотали и осыпали его насмешками.
Общему смятению способствовал еще тот факт, что публика и критики не могли отличить друг от друга Сёра, Синьяка и обоих Писсарро. Необычность картин, созданных этими различными художниками, работающими идентичной палитрой и опирающимися на общий метод, была слишком поразительна для того, чтобы посетители могли обращать внимание на тонкие индивидуальные отличия.
„Гранд-Жатт" Сёра, занимающая в комнате центральное место, лиризм Синьяка и наивная строгость Камилла Писсарро игнорировались, и критики заявили, что новый метод окончательно уничтожил индивидуальность художников, применявших его.
Критики, не склонные к внимательному исследованию, поспешили встретить это новое искусство своими обычными остротами. Но даже серьезные свободомыслящие авторы не могли скрыть своего неодобрения, видя в этих работах только упражнения вычурных виртуозов.
Так обстояли дела, когда Дюран-Рюэль вернулся в Париж спустя несколько дней после закрытия выставки в „Мезон Доре". В художественных кругах тотчас же начали циркулировать различные слухи. Некоторые утверждали, что ему сверхъестественно повезло, и он составил в Америке состояние, другие говорили, что он занялся там опасными делами и вынужден был удрать. То, что Дюран-Рюэль мог сообщить сам, было куда менее эффектно, но зато весьма обнадеживающе: он вернулся из поездки с убеждением, что от Америки можно ожидать многого, и хотя непосредственные результаты его выставки были довольно ограниченны, перспектива казалась многообещающей.
Прием, оказанный Дюран-Рюэлю в Нью-Йорке, был более приветливым, чем он смел надеяться, хотя, конечно, дело не обошлось без некоторых проявлений враждебности. Однако публика была очень заинтригована, отчасти благодаря неустанным стараниям Мери Кассат заинтересовать своих соотечественников искусством импрессионистов, но в еще большей мере благодаря тому, что Дюран-Рюэль уже был известен в Америке как агент и защитник Барбизонской школы. Его репутация заставила американскую публику сделать один весьма практический вывод, – вывод, который не сумели сделать французы, а именно: раз он так упорно поддерживает своих новых друзей, значит, работы их должны иметь какую-то ценность. Таким образом, и критики, и посетители подошли к этой выставке без предубеждения.
Желая смягчить то „потрясение", которое, вполне возможно, могли вызвать картины Мане, Дега, Ренуара, Моне, Сислея, Писсарро, Берты Моризо, Гийомена, Синьяка, Сёра и Кайботта, Дюран-Рюэль не только включил в свою выставку произведения Будена, Лепина и других, но еще добавил к ним некоторые академические картины.
Эта предосторожность, однако, оказалась излишней, и „New York Daily Tribune" зашла даже так далеко, что напечатала следующие строки в адрес покровителей Бугро и Кабанеля: „Мы склонны обвинять джентльменов, которые снабжают картинами нью-йоркский рынок, в том, что они сознательно скрывали от публики художников, представленных ныне на выставке в американских художественных галереях". Были, естественно, и такие статьи, которые мало чем отличались от статей во французских газетах.
Но в целом американские обозреватели проявили необычное понимание и вместо того, чтобы глупо насмехаться, сделали честную попытку разобраться во всем. Они с самого начала признали: „Ясно чувствуется, что художники работали с определенным намерением, и если они пренебрегали установленными правилами, то лишь потому, что переросли их, и если отказывались от мелких истин, то сделали это для того, чтобы сильнее подчеркнуть основные".
Общий смысл заметок в прессе, отражавшей реакцию посетителей, сводился к следующему: американские художники из этих картин могут извлечь ряд технических уроков; предлагаемая выставка, начиная с ранних работ Мане и кончая большим полотном Сёра, является единственной возможностью изучить „бескомпромиссную силу импрессионистской школы". Критик „Art Age", например, охотно признавал, что в их работах видно большое знание искусства, а в работах Дега – еще более глубокое знание жизни, что Ренуар смог взять энергичную и живую ноту и что пейзажи Моне, Сислея и Писсарро исполнены неземного покоя и в итоге очень красивы. "The Critic" даже заявлял: „Нью-Йорк никогда не видел более интересной выставки, чем эта".
Спустя две недели после открытия, которое состоялось 10 апреля, семь или восемь картин уже были проданы. Интерес к выставке был так велик, что решено было продлить ее еще на месяц. Из-за других обязательств Американской художественной галереи выставка в конце мая была переведена в Национальную Академию художеств, что практически равнялось официальному признанию. Перед тем как Дюран-Рюэль вернулся в конце концов во Францию, „Американская ассоциация искусства" закупила ряд картин и условилась с ним, что осенью он вернется с новой выставкой. Таким образом, Дюран-Рюэль имел все основания верить в будущее и считать поездку в Америку тем поворотным моментом, которого он долго ждал.
За исключением надежд, Дюран-Рюэль ничем не мог похвастаться художникам, когда вернулся в Париж. Расходы у него были большие, и он еще не был в состоянии удовлетворить их требования в отношении денег. Кроме того, его успех снова разжег зависть его противников. Начались разговоры о том, чтобы покупать картины непосредственно у импрессионистов и вынудить их порвать с Дюран-Рюэлем, для того чтобы захватить открытый им американский рынок. Тем временем нью-йоркские торговцы, которые не сомневались в его провале и были встревожены неожиданными результатами выставки, начали добиваться в Вашингтоне новых таможенных правил и, таким образом, оттянули его вторую выставку. Трудности еще далеко не были преодолены, но Дюран-Рюэль не терял веры и уговаривал своих художников не падать духом. Однако Писсарро, Моне и Ренуар не были уверены, сможет ли он дотянуть до явного финансового успеха.
Во время отсутствия Дюран-Рюэля Моне, не получая денег от своего торговца, продал несколько картин через Жоржа Пти по весьма удовлетворительным ценам (он брал за свои картины приблизительно по 1200 франков). Вместе с Ренуаром он участвовал также в выставке, организованной в Брюсселе новой ассоциацией – „Группой двадцати", поставившей своей задачей объединить весьма активные прогрессивные элементы в Бельгии с прогрессивными силами других стран. Успех в какой-то мере изменил позицию Моне, и он стал теперь более требователен в отношениях с Дюран-Рюэлем, а иногда даже откровенно груб. Он упрекал торговца в том, что тот отослал его картины в Америку или оставил их в качестве обеспечения своим кредиторам, так что сейчас он остался без запаса, который мог бы показать французской публике.
Писсарро тоже был недоволен тем, как Дюран-Рюэль продавал его работы, и хотел заключить контракт с каким-нибудь другим торговцем, если бы только имел возможность найти человека, в достаточной мере заинтересованного его искусством, чтобы поддержать его.
Гийомен и Гоген тем временем решили вместе с Сёра и Синьяком выставиться осенью 1886 года в „Салоне независимых", но Гоген в конце концов жестоко поругался с ними и отказался от выставки. Ренуар присоединился к Моне и выставился вместе с ним у Пти на „Международной выставке". Дюран-Рюэлю, который пошел туда посмотреть его последние работы, они не понравились, не понравились ему и новые „дивизионистские" работы, показанные ему Писсарро. Ему было особенно тяжело видеть, как их работы открыто провозглашали конец импрессионизма, и чувствовать, что дружба его с Моне кончается именно в тот момент, когда долгожданная победа казалась такой близкой.
Как бы подчеркивая окончательный распад группы, друг Сёра Феликс Фенеон опубликовал брошюру, озаглавленную „Импрессионисты в 1886 году", в которой устанавливал категории, особенно акцентируя разногласия, разъединяющие художников. Его восторги целиком относились к Сёра, и он не скрывал своего убеждения, что импрессионизм будет вытеснен новым стилем Сёра. Он ясно показывал, что все, связывающее Сёра и Синьяка с их предшественниками, было слишком неопределенно для того, чтобы считать молодых художников импрессионистами, несмотря на их участие в восьмой выставке группы. Как раз в это время и появился новый термин «неоимпрессионизм».
Как объяснял впоследствии Синьяк, термин этот был принят не для того, чтобы завоевать успех (поскольку импрессионисты все еще не выиграли сражение), а для того, чтобы отдать дань усилиям старшего поколения и подчеркнуть, что хотя приемы и меняются, конечная цель остается той же – свет и цвет.
Многие молодые художники огорчали своих учителей, членов Академии, живым интересом к теориям Сёра. Кормон даже временно закрыл свою мастерскую в знак протеста против их бунтарских экспериментов, инициатором которых был Эмиль Бернар. На этом основании один из учеников Кормона, Винсент Ван-Гог, решил больше не возвращаться к нему и работать самостоятельно.
Винсент, как он называл себя и как подписывал картины потому, что во Франции никто не мог правильно произнести его фамилию, прибыл в Париж весной 1886 года, чтобы поселиться у своего брата Тео и познакомиться со всеми новыми направлениями в искусстве. После лихорадочной, наполненной неудачами жизни тридцатитрехлетний Ван-Гог всего лишь несколько лет назад нашел свое истинное призвание, несмотря на то, что с одинаковой горячностью брался за профессии торговца картинами, учителя, проповедника и миссионера. Когда в конце концов он решил стать художником, то взялся за дело с таким невероятным пылом, что пугал многих своих знакомых.
Работая в Голландии в доме своих родителей, а затем в Академии в Антверпене, он почувствовал непреодолимое желание увидеть картины импрессионистов, о которых так часто упоминал Тео в своих письмах. Он начал также заниматься проблемой одновременного использования контрастов и дополнительных цветов, что являлось основой теорий Сёра и что он уже изучал сам в произведениях Делакруа. Вскоре стало совершенно очевидно, что никакой учитель, кроме Парижа, не сможет разрешить все теоретические и практические вопросы, осаждавшие его пытливый ум.
Итак, в один прекрасный день он прибыл в Париж, и Тео взялся представить брата художникам, с которыми имел дела. Тео представил своего брата Писсарро, и тот впоследствии рассказывал, как он сразу почувствовал, что Винсент „либо сойдет с ума, либо оставит импрессионистов далеко позади".
До сих пор работы Ван-Гога были очень темные, в них почти полностью отсутствовал цвет, и вначале его ошеломило богатство красок и свет, обнаруженные им в картинах импрессионистов. Но когда Писсарро объяснил ему теорию и технику, которые он применял в своих собственных картинах, Ван-Гог начал экспериментировать и немедленно с величайшим энтузиазмом воспринял новые идеи. Он решительно изменил свою палитру и манеру исполнения, пользуясь какое-то время даже неоимпрессионистской точкой, хотя и применял ее не так последовательно, как дивизионисты.
Когда осенью 1886 года Гоген возвратился в Париж, он встретил Ван-Гога, и вскоре, несмотря на холодную целеустремленность одного и кипучую восторженность другого, их связала странная дружба. Единственное, что у них было общего, это – воинствующий характер их убеждений.
Гоген начал проявлять превосходство и уверенность человека, который, наконец, нашел свой путь и привык, чтобы к нему прислушивались; Ван-Гог был охвачен жаром и смирением верующего, который стал свидетелем чуда и чувствует, как растет в нем неистовая гордость за новую веру. Ко всем противоположным влияниям, обрушившимся на Ван-Гога, – к доброте и терпению Писсарро, к холодной систематичности и известной замкнутости Сёра, к энергичному стремлению обращать в свою веру Синьяка, – Гоген добавил новый элемент: грубую откровенность, по временам пренебрежение природой и неясное стремление к преувеличению как средству выйти за пределы импрессионизма.
Для того чтобы идти этим новым путем, Гоген стал избегать Писсарро и перешел на сторону Дега. Он метал гром и молнии против Сёра и Синьяка. Писсарро, который уже был свидетелем многих бесплодных схваток среди старой гвардии импрессионистов, видел теперь, что новому поколению присуща та же нетерпимость.
Моне в это же самое время поспорил с Дюран-Рюэлем и возвратил ему аванс, заявив, что отныне будет продавать ему картины только за наличный расчет. Он также отказался продать ему больше половины последних работ, заявив, что предпочитает их сохранить, поскольку Дюран-Рюэль отослал весь свой запас в Америку.
Личная неприязнь больше уже не скрывалась, она вылилась в горькие ссоры. Так закончился 1886 год, год завершения и демонстрации картины-манифеста Сёра „Гранд-Жатт", прибытия во Францию Ван-Гога, первых мечтаний Гогена о далеких тропиках, начала успеха Дюран-Рюэля в Америке и, наконец, восьмой и последней выставки импрессионистов. Организовать новую выставку художники даже не пытались.
Заключение
Весной 1874 года группа молодых художников-живописцев, включающая Моне, Ренуара, Писсарро, Сислея, Дега, Сезана и Берту Моризо, пренебрегла официальным Салоном и устроила собственную выставку. Подобный поступок уже сам по себе был революционным и рвал с вековыми устоями, картины же этих художников на первый взгляд казались еще более враждебными традиции.
Реакция на это новшество со стороны посетителей и критиков была далеко не дружественной. Они обвиняли художников в том, что те пишут просто для того, чтобы привлечь внимание публики, а не так, как признанные мастера. Наиболее снисходительные рассматривали их работы как насмешку, как попытку подшутить над честными людьми. Потребовались годы жесточайшей борьбы, прежде чем эти, впоследствии признанные, классики живописи смогли убедить публику не только в своей искренности, но и в своем таланте. Всех этих очень разных художников объединила общая борьба с консерватизмом и академизмом в искусстве. Они все вместе и каждый в отдельности пришли к новому пониманию искусства и природы, цвета и света. Тогда как Энгр и Делакруа были более или менее одиноки в своих стремлениях, оставив далеко позади своих последователей, тогда как натуралистическое направление концентрировалось вокруг одного человека – Курбе, импрессионизм родился благодаря общим усилиям ряда художников, которые в постоянном взаимодействии выработали свой собственный стиль для выражения своего видения. Импрессионисты провели восемь выставок, последнюю – в 1886 году. После чего первая в истории современного искусства группа художников, объединившихся, чтобы воплотить общую идею, потеряла единую цель и перестала существовать.
Список литературы
импрессионизм коро французский культура
1.Денвер Б.Импрессионизм. Художники и картины.-М.:Искусство,1994
2.Дмитриева Н.А.Краткая история искусств.-М.:АСТ-Пресс,2004
.Ревалд Д.История импрессионизма.М.:Республика,2002
.Перрюшо А.Жизнь Ренуара.-Радуга,1986
.Энциклопедия импрессионизма и постимпрессионизма. Составитель Т.Г.Петровец.-Олма-Пресс,2001