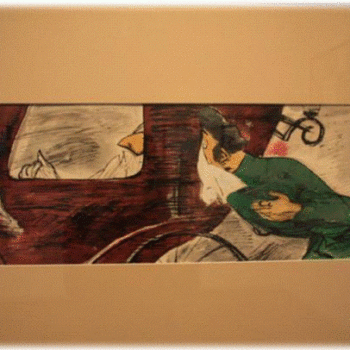- Вид работы: Статья
- Предмет: Культурология
- Язык: Русский , Формат файла: MS Word 12,67 kb
Преодоление символизма. Роль языка для философии. Между мудростью и разумом
Преодоление символизма. Роль языка для философии. Между мудростью и разумом.
Вяч.Вс. Иванов
В канун Первой Мировой войны общее направление русской культуры меняется. От символизма осуществляется переход к тем течениям, которые символизм преодолевают. Как и в европейской культуре времени создания программы аксиоматизации математики по Гильберту, на первый план выдвигается форма сама по себе. Уже у старших символистов – Брюсова, Вяч.И.Иванова – было заметно увлечение правилами, определяющими строение произведения как такового. Символизм многими младшими постсимволистами воспринимался прежде всего как возрождение стихотворной техники, забытой предшествующими поколениями (мне приходилось слышать такое признание от Пастернака, делавшего исключение только для Блока, в поэзии которого видел целый мир, сопоставимый по значению с пушкинским). Андрей Белый в кружке при символистском издательстве «Мусагет» вел занятия по статистике русского стиха в духе теории, изложенной им в «Символизме» (Андрей Белый 1910). Иванов в своей Башне и Брюсов на занятиях с учениками и в переписке с ними обращали внимание на форму прежде всего. Из их непосредственных учеников некоторые подхватывают именно эту линию. Так возникает гумилевский Цех поэтов, вслед за чем нарождается акмеизм как новое направление, приходящее на смену символизму.
Для крупнейших авторов постсимволистского времени важна роль языка как такового. Не всегда столь же значимо содержание. Упор на языковое выражение не только декларируется теоретически, но и определяет черты поэтики. Языковой формой прежде всего сильна Цветаева, детали обращения которой со словом напоминают сделанное Хайдеггером в немецком философском языке. В обоих случаях перевешивает словесная затейливость. Остальное автора и читателя часто меньше интересует.
Поэтика Гумилева, о которой мы подробнее начинаем узнавать только теперь по архивным материалам, интересна своим диахроническим измерением. Гумилев был увлечен реконструкцией такого прошлого поэзии, когда в кастовом обществе каста поэтов–друидов была одной из главных. Совпадение с восстановлением кастового общества у индоевропейцев в работах Дюмезиля, начинающихся десятилетием позже, кажется разительным. Можно думать, что либо Дюмезиль, в 1920-е годы выучивший русский язык, от кого-то из (эмигрировавших?) слушателей лекций Гумилева узнал о его теории, либо в бытность в Париже в конце первого десятилетия двадцатого века Гумилев мог слушать лекции одного из учителей и предшественников Дюмезиля, излагавшего похожие мысли и быть может ссылавшегося на древнекельтскую культуру, где роль касты поэтов-друидов особенно заметна. Позднее Гумилев говорил Блоку, что в этом понимании роли поэтов-друидов заключается вся его политическая программа:
И будут, как встарь, поэты
Водить сердца к высоте,
Как ангел водит кометы
К неведомой им мете.
Установление системы акмеизма в Цехе поэтов ознаменовалось статьей Гумилева, излагавшей принципы анализа стихотворения по нескольким основным уровням (поздний вариант той же идеи вызвал реплику Блока в статье «Без божества, без вдохновенья»). Одновременно с акмеистами на те же темы высказываются другие постсимволисты. В 1913г. основной темой деклараций всех постсимволистов становится слово как таковое. О его полной свободе говорят футуристы- Крученых и Хлебников. Тогда же манифест на эту тему пишет Бенедикт Лившиц, возвращающийся к истории вопроса в своем автобиографическом «Полутораглазом стрельце». Влияние текста Лившица можно заподозрить в почти одновременных с ним высказываниях Мандельштама о поэтическом слове (статья «Утро акмеизма»). В конце 1913-го г. происходит самое известное (но и последнее по времени) из этих событий: совсем молодой Виктор Шкловский, один из будущих создателей русского и мирового формализма, выступает с докладом на тему «Слово как таковое». Утверждается самодовлеющее слово как основной элемент литературы. Даже наименее ретроградные представители старой профессуры отшатываются от молодых хулиганов. На докладе Шкловского председательствовал великий лингвист И.А.Бодуэн де Куртене. Он не согласился с юным докладчиком. В лингвистику отказ от смысла придет позже – в формалистической грамматике русского языка М.Н. Петерсона (в конце 1920-х гг. оказавшей влияние на создателя глоссематики Л. Ельмслева), которая опередила американскую дескриптивную лингвистику.
При сосредоточении интереса на внешней стороне знака одной из главных задач по отношению к искусству становится установление набора основных элементов, в нем используемых. По отношению к графическим и шире оптическим символам программа их систематического описания была предложена еще в начале 1920-х гг. великим ученым, священником Павлом Флоренским. Из задуманного им труда “Symbolarium” сохранилась только первая глава “Точка” (посмертно, после его реабилитации, напечатанная в “Памятниках культуры”: Некрасова 1984; ср. Молок 1990). Согласно предлагаемому проекту, речь идет о полном собрании всех универсальных символов, использующихся в разных культурных традициях, и основных их локальных воплощений и вариантов (в разных кодах), а также наиболее употребимых или значительных комбинаций этих последних . На первый план выдвигаются символы в том графическом коде, для которого может быть дана относительно простая геометрическая и/или топологическая интерпретация, например, точка, прямая, круг, шар, пирамида, тетраэдр, лист Мёбиуса и т. п. С идеей Флоренского перекликается набор графических/оптических архетипов Юнга и последователей аналитической психологии, нейропсихологическая ценность которых проясняется благодаря новейшим данным по результатам получения образов при стимуляции электродами затылочных (зрительных) зон коры больших полушарий и по аналогичным выводам о психофармакологическом воздействии (ср. альбом, построенный на сочетании всех этих данных в книге Reichel-Dolmatoff 1978).
В те же годы, когда Флоренский задумывал свой “Symbolarium”, аналогичный набор графических элементов для изобразительного искусства пробовал набросать Кандинский (начинавший в 1920-е годы до своей эмиграции работу в области «физико-психологических» аспектов искусства). Сходные задачи ставила перед собой графическая азбука Митурича. В письмах Чекрыгина выступают графические знаки основных «соединенных функций квадрата и куба» (Чекрыгин 1977. с. 321 и рисунки вместе с текстом, не воспроизведенные в типографском тексте перепечатанных писем, на с. 3218-319); они сопоставимы с топологической классификацией основных значений глаголов движения, предложенной Рене Томом..
Отказ от смысловой интерпретации был новой чертой тех течений в науке и искусстве 20 века, которые возникают перед первой мировой войной и сразу вслед за ней. Логики, как Рассел, обнаруживают парадоксы, лежащие в основе математической философии (позднее это направление приведет к теореме Геделя). В «Столпе и утверждении истины» Флоренского рассматривается один из таких парадоксов, сформулированный Кэрролом (логиком и автором «Алисы в стране чудес»). Возможность построения заумных текстов демонстрировалась футуристами -Хлебниковым и Крученых, она была изучена Флоренским в лингвистических частях «У водоразделов мысли». Лингвист Л.В.Щерба вводит заумные грамматически правильные фразы («Глокая куздра штеко будланула и кудрячит бокренка») в свои языковедческие курсы, как (не зная о своем русском предшественнике) это в Австрии сделает в занятиях по логике Карнап, который одним из первых (вместе со своим учеником Бар-Хиллелом) подойдет к пониманию семантической информации. Для семиотики, в России зарождавшейся в философии Флоренского и Шпета, значение знака было одной из основных проблем. Искусство и наука начала 20-го века решают эту проблему экспериментально, в частности, путем отказа от значения.
Русский формализм начинает с экспериментального отказа от исследования внелитературных значений текста. Шкловский строит на этом допущении свою теорию прозы, Роман Якобсон в книжечке о Хлебникове изучает те стороны этого писателя, которые особенно поучительны для попытки заниматься литературой вне ее социальных и нравственных задач. Созданное в Петербурге в 1915 г. (весной- на масленицу) Общество по изучению поэтического языка (ОПОЯЗ) исходило из единства поэтики и лингвистики (Роман Якобсон отстаивал этот тезис на протяжении всей своей долгой жизни). Литература, в частности, поэзия, пользуется особым языком – поэтическим. К числу первых членов-основателей принадлежал замечательный лингвист Е.Д.Поливанов. В статье об одном общем принципе поэтической техники, изданной после его преждевременной насильственной смерти, он сформулировал законы орнаментирования стиха созвучиями-рифмами. Поливанов, сам писавший стихи на манер классических древнедальновосточных, занимался метрикой китайской поэзии и думал о создании корпуса поэтик разных языков (задача, оставшаяся невыполненной, входит теперь в замыслы Парижского кружка им. Поливанова, который занят в основном стиховедением). Другой выдающийся лингвист, с сaмого начала входивший в ОПОЯЗ, – Л.П.Якубинский открыл особенности употребления плавных ([r] и [l]), которые наблюдаются в разных языках кроме русского, бывшего предметом рассмотрения Якубинского. Дальнейшее развитие формальных исследований привело к необходимости изучения семантики поэтического языка, чему посвятил целую книгу Ю.Н.Тынянов.
Широким спектром языковых и смежных с ними филологических вопросов занимался созданный почти одновременно с ОПОЯЗом Московский Лингвистический Кружок. Его руководителями были не только языковеды (Роман Якобсон, М.Н. Петерсон), но и философы (Г.Г. Шпет, в своей книге «Внутренняя форма слова» занимавшийся преимущественно философией языка). Хотя темы обсуждений (например, фонема) и авторы, подвергавшиеся анализу, в ОПОЯЗе и Московском Лингвистическом Кружке могли совпадать, подход мог быть различен. Для Кружка характерно было прямое участие поэтов в его работе. Маяковский и Пастернак были членами кружка. Как мне рассказывал В.И.Нейштадт, у которого хранилась часть протоколов кружка, Маяковский выступал на его заседании в прениях по докладу о сложносокрашенных словах в русском языке. Он отвергал их роль, считая ее сильно преувеличенной.
Заострение внимания ученых-филологов и философов в России (Флоренского, Лосева, Шпета) на общих проблемах языка отвечает тому, что историки философии описывают как «уклон в сторону языка» (linguistic turn по Рорти), характеризующий в двадцатом веке ведущих мыслителей разных стран от Витгенштейна до Бора (последний в сочинениях по философии физики всегда задавался вопросом о характере языка, которым наука пользуется в отличие от повседневного общения). В общем виде можно сказать, что в начале века преобладает интерес к чистому синтаксису, а потом в сферу исследования втягиваются семантика и прагматика.
Из числа общих вопросов, объединяющих философию, науку и искусство (три основные стороны интеллектуальной деятельности, на которые мы ее расчленяем), с самого начала века становится в центре внимания пространственность. Глубокие мысли о ней изложил о. Павел Флоренский в цикле лекций, который он прочитал в начале 1920-х годов во ВХУТЕМАСе (Высшие Художественно-технические мастерские). Флоренский, основываясь на данных психофизиологии зрения, пробовал обнаружить, как осуществляется динамическое восприятие пространственного образа при образовании временных швов, делящих картину на части. Некоторые идеи Флоренского были развиты близкими к нему художниками (Жегиным и другими, входившими в группу «Маковец», в которой видную роль играл Чекрыгин, выступавший за понимание живописи как принципиально двумерного построения, стремящегося к передаче максимального содержания в пределах минимального пространства и поэтому настаивавший на роли изображения человеческого лица, Чекрыгин 1977).
В области понимания пространственно-временных искусств и их новых возможностей, открываемых техникой, много существенного было сделано практиками и теоретиками кино. Как в поэзии интерес перемещается на теорию поэтического языка как особой речевой формы, так в зарождающемся киноведении и в режиссерской работе, с ним связанной, основное внимание уделяется к иноязыку. Основы его понимания закладываются в работах Кулешова и Эйзенштейна, посвященных монтажу. В дальнейшем Эйзенштейн разрабатывает разные стороны эстетики кино в своих статьях, трактатах и курсах лекций во ВГИКе.
Россия в начале 1910-х годов была страной, где начали звучать вполне осмысленные разговоры о вероятно значительно большем, чем принимаемое на веру, числе измерений пространства. Покровитель футуристов и весьма независимый мыслитель Кульбин выступает на эту тему в Петрограде в кафе «Бродячая собака». Преувеличением было бы сказать, что ему была уже ясна логика будущих моделей Калуцы и Клейна, развитых вслед за теорией относительности Эйнштейна. Но «ломка миров живописных» (Хлебников) шла рука об руку с физическими открытиями и математическими моделями. К писателям, которые стремились к синтезу новых идей современной науки и образов искусства принадлежал плодовитый П.Д.Успенский. До приобщения (в годы после Первой мировой войны и эмиграции) к мистике Гурджиева Успенский занимался сравнением оккультных понятий Средних веков и основных идей Эйнштейна. Его «Новая модель Вселенной» («New Model of Universe», недавно издана по-русски) оказала влияние на новейшую английскую литературу: ссылкой на эту книгу Пристли объяснял появление своих пьес, в которых смещаются отношения во времени (сходные эксперименты в русской драматургии еще до Пристли делали Булгаков – в пьесе «Иван Васильевич» и Вс. Иванов в пьесе «Кесарь и комедианты»).
Наиболее увлекательный синтез научных воззрений и отчасти оправдавшихся пророчеств и предвидений содержит русская космическая философия. Начиная со «Всемира» Сухова-Кобылина, где впервые намечена (спустя больше чем полвека заново открытая акад.Н.Карташовым) классификация трех видов цивилизаций (на одной планете, в Солнечной системе и в Галактике), несколько русских мыслителей занималось взаимоотношениями человечества и космоса. Идея Чижевского о роли солнечной активности позднее получает широкое признание. Циолковский, чьи пантеистические взгляды повлияли на натур-философские воззрения Заболоцкого времени перед его арестом, в связи со своими занятиями этой темой упоминает (в неизданных записях, хранящихся в архиве, и в статьях, вошедших в 4-й том Собрания его сочинений) увиденные им на небе знаки. План завоевания человечеством окружающей части Вселенной как религиозная идея была воспринята главным деятелем, которому Россия обязана своей ролью в освоении космоса, -С.П. Королевым, который принимал общую схему ее осуществления, намеченную Циолковским (который в конце концов вдохновлялся философией общего дела Федорова).
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://imk.msu.ru/