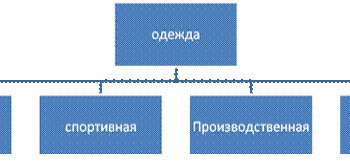В. А. Гавриков Творчество Башлачева — уникальный материал сразу по нескольким причинам. Назовем только одну из них, быть может, важнейшую: чтобы адекватно понять суть мифологической системы певца, мы должны обратиться к исторической поэтике во всей ее протяженности: от эпохи синкретизма и порожденных ею древних ритуальных форм до постмодернизма. В случае с Башлачевым этот путь оказался инвертирован, поэт поступательно двигался от современности в глубь веков, творчески пытаясь познать магию древнейшего праязыка. Эта постепенная поэтическая «архаизация» проявляется при анализе и пространственно-временных категорий в башлачевском тексте, и при рассмотрении субъектно-объектных отношений, и в конечном счете — в постоянном изменении функции и структуры метафоры у Башлачева. Однако прежде чем обратиться собственно к анализу материала, необходимо разобраться, какие метафоры (и близкие к ним по сути образования) существовали на всей протяженности развития языка. Иными словами, необходимо обратиться к наработкам исторической поэтики, чтобы наметить методологическую основу, через призму которой мы и будем рассматривать диалектику башлачевской метафоры. В первой части данной статьи мы предложим (конечно, пока только в виде гипотезы) свое видение развития образности, иногда дополняя исследования филологов-классиков. Немного теории Современные ученые (в частности С. Н. Бройтман), опираясь на исследования своих предшественников (от А. Н. Веселовского до М. М. Бахтина), пришли к выводу, что типы образа в эпоху синкретизма возникали в следующем порядке: вначале появилась кумуляция (кумуляция — тип образа, заключающийся в последовательном «присоединении» или «накоплении» членов художественного высказывания), затем параллелизм и, наконец, троп 1. Нам кажется, что в древнем языке (а поначалу не было разделения на язык искусства и язык «в себе») всегда существовал некий механизм порождения новых образов и номинаций, который при длительном развитии дал нам в том числе и способ кодировки информации, называемый сейчас метафорой.
Эта операция (или способ действия) была обозначена А. Н. Веселов-ским как «психологический прием»: «Связь мифа, языка и поэзии не столько в единстве предания, сколько в единстве психологического приема…» 2 Действительно, поэтический ли перенос перед нами или мифическое отождествление, мы все равно имеем дело с общностью признака, которая продуцирует любой тип образа. Кстати, на основании трех перечисленных А. Н. Веселов-ским категорий (миф, язык, поэзия) мы можем выделить и три типа метафоры: сакральную, языковую и эстетическую, причем наш термин языковая метафора не восходит к тому же Веселовскому, который так называл «стертые» метафоры. В связи со сказанным возникает очевидный вопрос: что это за «психологический прием», механизм, общий для создания образности языковой, мифической и поэтической? Его можно было бы назвать «перенос по сходству», но понятие перенесения не очень удачно, так как предполагает некоторую автономность семантики двух единиц языка, которой в период синкретизма не было (все отражалось во всем). Однако тот механизм, о котором мы говорим, при функциональном различии (зачем?) во все времена имел единую или, по крайней мере, схожую «производительную» матрицу (как?). Чтобы далее избегать омонимичности в формулировках, назовем этот производительный механизм, или «психологический прием» (по А. Н. Веселовскому), «семантической мотивацией» (пока только в виде условного, «рабочего» термина). Суть же «семантической мотивации», если говорить в общем, — в возможности сближения (соотнесения, отождествления) двух явлений, предметов и т. д. на основании их внутреннего единства или частичного совпадения в визуальном отношении, функциональном и т. д. Итак, в период синкретизма образ был настолько пластичен, что вбирал в себя не только все похожее (подобное оказывается тем же), но все проявления данного образа (часть равна целому), т. е. в период первых номинаций уже осуществлялся некий творческий акт. Поэтому нам кажется, что движение к тропу нужно начать не с кумуляции, а с полиономии, являющейся, возможно, порождением еще досинтаксической «семантической мотивации». Проявляется полиономия в тех случаях, когда объекты, сходные эйдетически, и в корневом отношении «вырастают» из единого денотата: «Дитя, которое еще и ныне, взглянувши на небо, принимает белое облако за снежную гору, конечно, не знает, что парвиша на языке Вед означало гору и облако» 3 . О полиономии же (правда, не называя самого термина) говорит и А. Н. Афанасьев: «Так как различные предметы и явления легко могут быть сходны некоторыми своими признаками и в этом отношении производят на чувства одинаковое впечатление, то естественно, что человек стал сближать их в своих представлениях и придавать им одно и то же название…» 4 В исследованиях отмечено, что самые древние образы являются статичными, фактически лишенными процессуальности 5 . В таких условиях трудно говорить о синтаксисе, о речевых связях слов, так как в период раннего синкретизма слово, осмелимся предположить, было сразу и предложением, и текстом, являясь при этом единицей синтагматически непроницаемой. Но в это время уже существовала некоторая образность (при создании новых слов, о чем шла речь выше), хотя синтаксиса, а значит, кумуляции еще не было. Затем (и это, вероятнее всего, период появления кумуляции) происходит образование некоего прасинтаксиса, когда появляется возможность того, что некая общая идея («семантический стержень») может объединить последовательность слов в некое связанное целое. Здесь возникает интересный вопрос о влиянии первых синтаксических «конструкций» (пока только в виде некоего накопления, наслоения) на общее развитие ритуала и мифа. Возможно, некоторые дошедшие до нас кумулятивные тексты (условно художественные), генетически восходящие к палеолиту, являются первыми закрепленными в традиции ритуальными формулами, связанными с древней магией. При этом практика фиксированного развернутого сакрального звукокода могла возникнуть только на определенной ступени развития человеческой формации, для самых же древних ритуальных форм (что, кстати, мы можем наблюдать и сейчас у отдельных народностей) важно не что говорится, а кем (шаманом), как (в трансе) и когда (во время камлания). Текст, рождающийся в условиях подобного действа, является «туманным», несвязным, провиденческим. Ясно, что со временем этот магический текст мог «отвердевать», превращаясь в некое высказывание сакрального типа, которое несет в себе (по мнению древнего человека) некую высшую информацию. Сохранился такой магический текст (причем в неизменном виде) и до наших дней: «Они (заговоры. — В. Г.) непригодны для забавы и, как памятники вещего, чародейного слова, вмещают в себе страшную силу, которую не следует пытать без крайней нужды; иначе наживешь беду… Могучая сила заговоров заключается именно в известных эпических выражениях, в издревле узаконенных формулах; как скоро позабыты или изменены формулы — заклятие недействительно» 6 . Итак, если следовать логике этих изысканий, то получается, что вначале, когда еще не было разделения на языковой текст, художественный и ритуальный, существовал первый тип образности — полиономия. За ней (т. е. с некоторого момента параллельно ей) начинает проявляться кумуляция, потом (по С. Н. Бройтману) возникает параллелизм, за ним — троп. Казалось бы, время образования метафоры определено: конец эпохи синкретизма. Однако если мы обратимся к исследованиям О. М. Фрейденберг (в частности, к ее «Поэтике сюжета и жанра»), то окажется, что метафора — образование более древнее: «Язык и миф… параллельны, и общая, рождающая их стихия есть первобытное сознание. Но неразрывность языкового понятия и мифического образа позволяет заменять один из этих двух элементов другим, и тогда перед нами метафора. Ни образность речи не произошла из мифа, ни миф — из образности речи. Метафора как форма комплексного и отождествляющего мышления предшествует разграничению языка и мифа; в момент ее зарождения элементы сознания еще не выделены, и вот этот процесс отождествления и есть метафоризация» 7 . С другой стороны, Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский считают, что «…в самом мифологическом тексте метафора как таковая, строго говоря, невозможна» 8 . Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского поддерживает Д. П. Муравьев: «Более древними, предшествующими М. (метафоре. — В. Г.) элементами образности являются сравнение, эпитет и параллелизм» 9 . Что же получается? Метафора в период синкретизма то существует (Фрейденберг), то нет (Лотман, Успенский, Муравьев)? Очевидно, исследователи говорят о двух разных типах образа, различающихся в первую очередь функционально. Кстати, немецкий ученый Эрнст Кассирер в работе «Сила метафоры» показывает, что метафора может быть как языковой в нашей классификации (с ней же он связывает и мифообразующую метафору), так и художественной: «Употребление метафоры явно предполагает, что и языковое содержание отдельных элементов, и языковые корреляты этого содержания задаются в качестве уже известных величин: лишь после того, как элементы определяются и фиксируются в языке, они могут взаимозаменяться. От этой перестановки и замены, которая включает словарный запас языка как уже готовый материал, следует отличать действительно “базисную” метафору, которая сама по себе является условием создания языка так же, как и мифологических понятий» 10 . Причем «базисная метафора» Кассирера — это, скорее, не сама метафора, а механизм создания образа, то, что ранее мы назвали «семантической мотивацией». Таким образом, мы имеем несколько исторически сложившихся типов метафоры: самая древняя — языковая; древняя, о которой говорит О. М. Фрейденберг, назовем ее по функции — сакральная (ее разновидностью будет метафора ритуальная, «темная», «заклинательная»); и, наконец, метафора современная, или собственно метафора, или эстетическая (по функции). Причем второй тип метафоры (сакральную) можно назвать еще и метафорой-отождествлением: «Образ оформляется при помощи отдельных, совершенно различных, конкретно примененных метафор; они, таким образом, семантически тождественны, но всегда морфологически различны» 11 . Тогда третий тип метафоры (эстетическая) — это метафора-сопоставление, обладающая даже некоторой степенью сравнительности и появляющаяся с началом собственно литературы. Кстати, некоторые исследователи называют метафору (и речь, конечно, идет об эстетической метафоре) особым сравнением (такая трактовка встречается уже у Цицерона и Квинтилиана). Словом, мы выяснили, что из-за омонимичности формулировок (слишком уж много типов образа исследователи вкладывают в термин «метафора») возникает путаница. Наверное, сакральную метафору нужно обозначить каким-то другим термином, но это, конечно, дело будущего. Пока же отметим, что данный тип метафоры, видимо, предшествует параллелизму, по крайней мере художественному (эстетическому) параллелизму. Кстати, и поныне шаманы используют ритуал перенесения болезни с человека на какой-то объект (например, дерево), совершаемый посредством их отождествления (сакрального параллелизма), т. е. полного «растворения» друг в друге. Думается, что именно из таких магических практик и появился впоследствии художественный параллелизм. Но вернемся к метафоре. Мы установили, что два ее типа — сакральная и эстетическая — различаются по функции. Но только ли по функции? Есть ведь наверняка и смысловые отличия между этими двумя типами метафоры. В самом деле: в период синкретизма два предмета или явления свободно «проникают» друг в друга, отождествляются, т. е. для образования сакральной метафоры не обязательны семантические «посредники», которые непременно проявляются в метафоре, когда сознание уже способно на простейшее абстрагирование. Иными словами, эстетическая, художественная метафора возникает в условиях достаточно жестких семантических корреляций между двумя явлениями или предметами, а вот метафора сакральная — порождение древнего синкретизма, суть ее — в отождествлении двух понятий, точнее, в двояком «внешнем» проявлении одного и того же. Соответственно через эти семантические особенности двух типов метафоры мы можем уже выйти на структурный уровень, и это ключевой момент всей нашей работы. Итак, эстетическая метафора в связи с достаточно жесткими связями на уровне семантики двух сопоставляемых предметов/явлений должна обладать бóльшим числом обязательных членов, чем метафора сакральная (особенно, если мы говорим о ее «темной», «заклинательной» разновидности). На наш взгляд, генетически обусловленная и наиболее часто встречающаяся структура эстетической метафоры будет следующей: А. То, что сопоставляется; Б. То, с чем сопоставляется; В. То, на основании чего сопоставляется (признаки сходства); Г. Поясняющий контекст. Конечно, при современном развитии литературы, при всем многообразии метафорических форм структура их может быть фактически любой. Мы говорим лишь о тенденции, а не об обязательном правиле. Сакральная метафора более свободна, ведь в условиях мира, где все отражается во всем, как мы уже говорили, она может отождествить два любых предмета или явления, не заботясь о некотором «узуальном» их сходстве, о проявленных семантических связях (либо эти связи будут «загнаны» в идиоматический подтекст, порой трудно дешифруемый 12 и имеющий свое начало в мифологии). Поэтому любой из членов вышепредставленной схемы может отсутствовать в структуре сакральной метафоры. Используя бегло намеченный нами инструментарий, обратимся собственно к анализу материала. В творчестве Башлачева присутствует некий аналог полиономии, который проявляется при столкновении омонимов («омонимической аттракции»?). Иными словами, полиономия возвращается к нам «от обратного». Например, в песне «Сядем рядом» находим такие строки: Мукой, / да не мукою / все приметы засыпают, засыпают на ходу. То есть омонимы и разные значения многозначного слова Башлачев словно возвращает к праязыковому «денотату», помещая их в единый контекст (здесь же, кстати, и «омографическая аттракция»: мука — мука ). Не стоит забывать и о том, что для поэзии рока характерно слово «звучащее». А ведь в дописьменное время создания и развития праязыка звук был единственной материальной фиксацией слова. Поэтому разграничить древние (впрочем, и современные) омофоны мог только контекст (если, конечно, мог). Из-за подобной двойственности (тройственности и т. д.) наверняка возникала двусмысленность («многосмысленность») некоторых звукообразов. А так как древний разум не обладал достаточным аппаратом дифференциации омофонов, то они, видимо, часто отождествлялись. Таким образом, двусмысленность омофона вполне могла выполнять ту же функцию, что и полиономия. В этой связи отметим, что омофонов в творчестве Башлачева встречается достаточно много: Эх, налей посошок, / да зашей мой мешок — / На строку — по [стишку], / а на слова — по два шва (стежку, стишку и еще, быть может, стяжку). Интересно отметить и то, что у Башлачева есть образования, которые весьма похожи на древнюю кумуляцию: Клевер да березы. Полевое племя. Север да морозы. Золотое стремя. Серебро и слезы В азиатской вазе. Потом — юродивые-князи Нашей всепогодной грязи. «Лихо» Рука на плече. Печать на крыле. В казарме проблем — Банный день. Промокла тетрадь. «От винта» Однако это все-таки частности, обратимся же к главному предмету нашей работы. 1. Метафоры ранние, эстетические У раннего Башлачева мы встречаем массу метафор, структурно относимых в нашей классификации к эстетическим, а вот метафор сакрального типа практически нет. В этом аспекте интересным примером нам видится начало песни «Зимняя сказка»: Однозвучно звенит колокольчик Спасской башни Кремля. В тесной кузнице дня Лохи-блохи подковали Левшу. Под рукою — снега. Протокольные листы февраля. Эх, бессонная ночь! Наливай чернила — все подпишу! Как досрочник-ЗК два часа назад откинулся день . Я опять на краю знаменитых вологданьских лесов. Как эскадра в строю, проплывают корабли деревень , И печные дымы — столбовые мачты без парусов 13 . В метафоре второй строки присутствуют все четыре описанных выше компонента. Во-первых, есть то, что сопоставляется (день); во-вторых, то, с чем сопоставляется (кузница); в-третьих, семантическая общность — что-то светлое, жаркое; и, наконец, в-четвертых, единство контекста. То же самое можно сказать и о следующей строке, где семантическая корреляция происходит на основании свойств чистого снега (белизна) и чистых листов (та же белизна). Далее идут сравнения: день как досрочник-ЗК (и тот, и другой откинулся); деревни как корабли и эскадра (корабль и дом связаны в какой-то степени и функционально, и на основе материала, ведь как корабли, так и деревенские дома могут быть сделаны из дерева, и даже по форме). В этой связи характерно и близкое соседство, а также структурное сходство эстетических метафор и сравнений, ведь «эстетичность» (в противовес сакральности) последних не вызывает сомнений. Кстати, первые и вторые оказываются даже изоморфными, выделенные слова во фразе: И печные дымы — столбовые мачты без парусов явно представляют собой «урезанное» сравнение (что явствует из общей «сравнительности» контекста). Кстати, сравнений у раннего Башлачева чуть ли не больше, чем метафор (здесь, конечно, требуется отдельное статистическое исследование, но общая тенденция налицо). Единственная метафора, структурно не вписывающаяся в рамки метафоры эстетической, в анализируемой песне представлена в первой строке (часы Спасской башни Кремля названы колокольчиком). В стороне мы оставили олицетворения, так как в контексте башлачевского творчества они представляют собой тип образа, достаточно далекий от «стандартной» метафоры и требующий особого подхода. Вообще ранние песни Башлачева метафоризированы менее последующих. А когда метафора здесь встречается, то она очень часто является «полнокровной», богатой структурно: …Вечный сквозняк. Он выдувает из спальни Сухие крошки страстей. В новостройках — ящиках стеклотары Задыхаемся от угара… «Дым коромыслом» Мы вязли в песке, Потом соскользнули по лезвию льда. «Черные дыры» Посмотри Сырая вата затяжной зари. Нас атакуют тучи-пузыри. Тугие мочевые пузыри. «Рыбный день» На песке расползлись И червями сплелись Мысли, волосы и нервы. «Час прилива» Платина платья, штанов свинец Душат только тех, кто не рискует дышать. «Влажный блеск наших глаз» Если же мы все-таки имеем дело с некоторой «шифровкой» на структурном уровне, то у раннего Башлачева она является прозрачной, легко опознаваемой: Разбились часы, и осколки минут Порезали мне лицо. «О, как ты эффектна при этих свечах» Явно здесь осколки минут в смысловом плане «рифмуются» с осколками разбитого часового стекла. Итак, раннее творчество Башлачева, во-первых, не очень богато метафорами (в сравнении, конечно, с поздним), во-вторых, если этот тип образа и присутствует, то мы имеем дело, как правило, со структурно полными, богатыми образованиями, которые по своей функции чаще всего являются эстетическими. 2. Метафоры среднего периода, смешанные К среднему периоду 14 можно отнести произведения, написанные в 1984 — начале 1985 г. Интересно отметить, что в более ранних текстах этого этапа Башлачев преимущественно пользуется метафорой эстетической. Например, в очень густо метафоризированной песне «Абсолютный вахтер» мы встречам, пожалуй, только одну метафору сакральной структуры: Он выкачивает звуки резиновым шприцем Из колючей проволоки наших вен. Что это за «резиновый шприц»? Резиновая дубинка, которой из заключенных «выбивают» правду (т. е. звуки)? Или что-то еще? Вряд ли ответ может быть однозначным. Еще несколько примечательных примеров находим в песне «Мельница»: Черный дым по крыше стелется. Свистит под окнами. В пятницу да ближе к полночи не проворонь, вези зерно на мельницу! Черных туч котлы чугунные кипят да в белых трещинах шипят гадюки-молнии. Дальний путь — канава торная. Все через пень-колоду-кочку кувырком да поперек. Топких мест ларцы янтарные да жемчуга болотные в сырой траве. Что это за жемчуга болотные? Капли воды? Роса? Улитки (хотя вряд ли)? Жемчуг имеет семы «предмет круглой формы» и «блестящий, сверкающий». В этом отношении все наши варианты (и не только они) могут быть «расшифровкой» данной метафоры. Словом, в структуре этого типа образа не хватает одного элемента — того, что сопоставляется (или отождествляется? — метафора-то сакральной «архитектоники»). Со временем, ближе к 1985 г., Башлачев все больше начинает использовать метафоры «недосказанности», т. е. сакральной структуры. При этом данные метафоры пока еще можно «дешифровать» сравнительно просто. Обратимся к песне «Петербургская свадьба», которая «стоит на пороге» третьего этапа: Звенели бубенцы. И кони в жарком мыле Тачанку понесли навстречу целине. Тебя, мой бедный друг, в тот вечер ослепили Два черных фонаря под выбитым пенсне. Там шла борьба за смерть. Они дрались за место И право наблевать за свадебным столом. Спеша стать сразу всем, насилуя невесту, Стреляли наугад и лезли напролом. Сегодня город твой стал праздничной открыткой. Классический союз гвоздики и штыка. Заштопаны тугой, суровой, красной ниткой Все бреши твоего гнилого сюртука. Под радиоудар московского набата На брачных простынях, что сохнут по углам, Развернутая кровь, как символ страстной даты, Смешается в вине с грехами пополам Чтобы понять, что это за бубенцы и кони (тачанка), обратимся к песням «Время колокольчиков» и «Посошок», где данные метафоры развернуты достаточно широко. Итак, кони и тачанка явно восходят к гоголевской птице-тройке, т. е. к образу России. А бубенцы, кстати, висящие под дугой птицы-тройки (см. «Время колокольчиков»), — это поэты. Разумеется, нами показаны наиболее вероятные «расшифровки» данных метафорических образований, трактовок же, естественно, может быть больше. Переходим несколькими строками ниже: что это за два жениха и невеста? Вероятнее всего, первых два «персонажа» — это белые и красные (и речь идет о времени Гражданской войны), а невеста — соответственно — наша страна. Вообще образ России-невесты — сквозной для русской литературы, здесь же можно вспомнить и блоковскую Россию-женщину, и фольклорную Русь-матушку… Да и для самого Башлачева родная страна — это прежде всего женщина («Посошок», «Случай в Сибири», «Егоркина блина»…), и лишь во вторую очередь — птица-тройка. Далее идет сопоставление города (Петербурга) и праздничной открытки на основании того, что здесь (в городе) очень много людей со штыками и красными гвоздиками в петлицах. Эту метафору в структурном отношении следует признать эстетической, полной. А вот что это за «гнилой сюртук»? Страна? Петербург? Или что-то еще? Тут есть о чем поразмышлять и поспорить. Следующая метафора структурно, скорее, эстетическая: Под радиоудар московского набата , хотя и не лишенная определенных смысловых тонкостей: почему кровь разворачивается именно под радиоудар? Затем встречается метафора (на брачных простынях… развернутая кровь) явно «усеченная». Во-первых, здесь поэтом делается метафорическая отсылка к советскому флагу, во-вторых, обыгрывается выражение кровь свернулась (у Башлачева — развернулась), что придает метафоре еще большую отточенность. Как мы видим, Башлачев постепенно уходил от «простых», т. е. полных метафор, приходя к метафорам «недосказанности», метафорам с отсутствующими членами. Такая тенденция совпала с другим процессом в творчестве поэта — постепенным нарастанием мифологизированности текстов (что в рамках исторической поэтики значило бы реверсивный переход от современных литературных «канонов» к архаике). Иными словами, Башлачев в своем творчестве «шел в противоположную сторону» историческому литературному процессу и пришел к синкретизму, организовавшему все его творчество в один жестко структурированный миф. 3. Поздние сакральные метафоры К поздним текстам следует отнести произведения конца 1985 г., но наиболее ярко проявились сакральные метафоры именно в произведениях 1986 г. То, что (или с чем) отождествляется (теперь уже именно отождествляется!), у позднего Башлачева очень часто исчезает из текста, но вполне восстанавливается в некоторой опорной точке произведения, которая как бы «дешифрует» метафору-загадку. Например, во фразе уронила кружево до зари («Вечный пост») непросто определить, что же это за кружево. Хотя сочетание до зари говорит нам о том, что, видимо, мы имеем дело с чем-то ночным, т. е. с «ночным кружевом». Окончательно же определить основную трактовку метафоры можно, спустившись несколькими строками ниже: Брошу до самых звезд. Скорее всего кружево до зари — это именно ночные светила. Вообще песня «Вечный пост» изобилует метафорами сакральной структуры, поэтому обратимся к ней подробнее: Засучи мне, Господи, рукава! Подари мне посох на верный путь! Я пойду смотреть, как твоя вдова В кулаке скрутила сухую грудь. В кулаке скрутила сухую грудь. Уронила кружево до зари. Подари мне посох на верный путь! Отнесу ей постные сухари. Отнесу ей черные сухари. Раскрошу да брошу до самых звезд. Гори-гори ясно! Гори… По Руси, по матушке — Вечный пост. Что это за посох? Думается, здесь можно провести параллель с ранней «Зимней сказкой»: А мне, похоже, опять до рассвета по снегам ковылять с костылями стихов. Да и чего еще может просить поэт у Всевышнего, как не творческого благословления? То есть перед нами некое «путеводное перо, стило». Кстати, у Башлачева немало метафор, подобных вышерассмотренной, интерпретировать которые можно только при обращении к целостному контексту всего творчества поэта. Таким же образом мы можем «дешифровать» вдову из третьей строки (это, вероятнее всего, Россия, о чем шла речь выше), а также постные (черные) сухари, метафорический смысл которых можно восстановить при помощи песни «Сядем рядом». Данное произведение является развернутой метафорой, представляющей человека колосом, душу его — зерном, а тело — плевелами: Жить, как колос. Размолотит колос в дух и прах один цепной удар. Метафора строится на аксиологической антитезе: ценная душа противопоставлена неценному телу так же, как и ценное зерно противопоставлено неценным плевелам. Словом, чем дальше дешифрующий контекст «отрывается» от метафоры, тем больше она напоминает символ, соответственно, тем больше имеет трактовок. Описанный процесс и происходил в поэтике Башлачева, где каждое слово со временем становится в какой-то степени «интертекстемой», которая в сознании «идеального слушателя» отзывается полнокровным мифическим сюжетом (чаще — из наследия самого же Башлачева). Соответственно в поздних песнях поэта, когда каждое слово было еще и апелляцией к мифообразу, появилась такая схема: слово — это образ, образ — это миф, а миф — это сюжет. Некоторые подобные лирические (или, лучше сказать, мифо-лирические) сюжеты развернуты Башлачевым в целые песни, например, тем же самым «сухарям» целиком посвящены еще и композиции «Тесто», «Мельница». И последнее, на чем нужно остановиться, это башлачевские «темные метафоры», на которые первым обратил внимание С. В. Свиридов: «Поэзия Александра Башлачева трудно поддается интерпретации. В итоге недолгого творческого пути он пришел к намеренно темному слову, требующему скорее интуитивного, чем рационального восприятия» 15 . Действительно, эти «темноты» не имеют смысла, подобного тому, что литературоведы привыкли «извлекать» из образа, в первую очередь данные семантические «сгустки» нужно оценивать функционально. А через эту функцию (сакральную) мы уже выйдем на уровень звукокода, магического заклинания и, таким образом, окажемся в области мифической. Другим ключом к этим «темным метафорам» Башлачева может стать целостное здание его поэтики, удивительно упорядоченное, где каждый элемент как парадигматически (по вертикали), так и синтагматически (по горизонтали) имеет свое место, обладая также определенной аксиологической маркировкой. «Темная метафора» — последний шаг в развитии башлачевской метафоры. Это тип образа эдейтический, шаманский. Поэт уже не требует от метафоры мотивировки, основанной на некотором более или менее объективном сходстве, метафора становится немотивированной или, лучше сказать, магически мотивированной. Башлачев, следуя своей формуле «нужно, чтобы словам было тесно, а мысли просторно», предельно насыщает свои поздние произведения семантическими потенциалами, избавляясь от формальной (на уровне формы) избыточности. Зато как вырастает избыточность содержательная! Здесь-то и появляются те смысловые нагромождения и неясности («темный стиль»), о которых говорит С. В. Свиридов. Остановимся на некоторых примерах: Без трех минут — бал Восковых фигур. Без четверти — смерть. С семи драных шкур — Шерсти клок. Как хочется жить. Не меньше, чем спеть. Свяжи мою нить В узелок. «От винта» Что это за восковые фигуры? Почему они оживают? Почему именно без трех минут — бал? Без четверти — смерть — о чем это? Почему в первых четырех строках так много цифр (без трех, без четверти, с семи шкур)? Аутентичная (и тем более — однозначная) интерпретация подобных «темнот» кажется задачей практически неразрешимой. Чуть проще обстоят дела с последними четырьмя строками. Нить в контексте всей башлачевской поэтики представляет собой, с одной стороны, некий носитель информации (струну, волос: намотай на ус, на волос, Когда мы вместе), с другой — жизненный путь, линию судьбы. А так как в поэтике Башлачева понятия жить и петь являются синонимами (Можно песенку прожить иначе — В чистом поле — дожди), то жить, петь и нить явно выстраиваются в некую смысловую цепочку. А вот узелок на нити судьбы — это, вероятнее всего, смерть. Башлачев считал, что гибель — не конечная точка бытия: не жалко распять для того, чтоб вернуться к Пилату, поэтому нить жизни не обрывается, на ней просто образуется узелок. А данный узелок уже семантически рифмуется и с восковыми фигурами (мертвецами?) и с фразой без четверти — смерть. Нельзя забывать и усиленное внимание Башлачева к звуковому облику лексем, так что три перечисленных слова (жить, петь и нить) соотносятся еще и в этом аспекте. Кроме того, можно заметить (и это выделено у нас в цитате полужирным шрифтом), что в предпоследней строке происходит фонетическая «переплавка» слова жить в свяжи нить , что встречается у Башлачева и в других песнях: Воля уготована всем, кому вольготно («Пляши в огне»). Таким образом, на наш взгляд, некоторым «темным метафорам» у рок-поэта можно дать интерпретацию именно через анализ звуковой ткани стиха: За будь , что будет И в ручей мой наудачу брось пятак. Когда мы вместе — все наши вести в том, что есть. Мы можем многое не так. Небеса в решете, роса на липовом ли сте и все русалки о се ребряном хвосте ведут по кругу нашу честь. «Когда мы вместе» Во-первых, рассмотрим созвучие во фразе забудь, что будет, которое можно прочитать следующим образом: раз ты знаешь, что будет, значит, возможно, ты это уже переживал (напомним, что в мифопоэтике Башлачева время — круг). Интересную фразу находим в третьей строке: Когда мы вместе — все наши вести в том, что есть, которая ставит перед нами проблему вести как истины. Башлачев видит в слове весть отголосок слова есть, таким образом, весть — то, что есть, истина: Мне в доброй вести не пристало врать (цитата из той же песни). Значит, весть и ведать для рок-поэта этимологически родственные слова (вспомним старославянскую форму 3-го лица единственного числа от глагола ведати, сохранившуюся в идиоме Бог весть — Бог ведает). Отсюда же может происходить и слово последней строки нашего отрывка: ведут. Любопытными представляются и созвучия в пятой, шестой и седьмой строках: небеса — роса — русалки, решете — се ребряном, липовом — листе, решете — листе — хвосте , все — серебряном . Иногда ключ к интерпретации «темной метафоры» — память о фразеологизме, из которого она «выросла»: Блудил в долгу да красил мятежом («Когда мы вместе») — долг платежом красен. Не стоит забывать, что слово Башлачева — звучащее, поэтому иногда «темноты» могут в смысловом плане «умножаться» посредством омофонов: Хлебом с болью встретят златые дни. Завернут в три шкуры да все ребром (дав серебром). «Вечный пост» Причем ни один из омофоничных вариантов не делает смысл отрывка более прозрачным. Подведем итог: поэтический путь Башлачева — это путь от структурно полной и функционально эстетической метафоры к метафоре «урезанной», сакральной, провидческой. У поэта мы можем обозначить несколько типов метафоры. Во-первых, метафора «синхронного смысла»: Нас атакуют тучи-пузыри. // Тугие мочевые пузыри. Здесь есть оба члена метафоры, стоящие в смежной позиции, семантическая связь прозрачна. Во-вторых, метафоры близкого контекста: серебро в ведре («Вечный пост»), которые «дешифруются» цитатой из этой же песни: Как присело солнце с пустым ведром (т. е. речь идет, видимо, о дневном свете). В-третьих, могут появляться метафоры сквозные для творчества рок-певца, понять которые можно только из общего контекста всей башлачевской поэтики («сухари»). И в-четвертых, метафоры «темные», которые практически не подлежат «классической интерпретации». Список литературы 1 Бройтман С. Н. Историческая поэтика. М., 2004. С. 38–43. 2 Веселовский А. Н. Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля // Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М., 1989. С. 107. 3 Потебня А. А. Об участии языка в образовании мифов // Потебня А. А. Теоретическая поэтика. М., 1990. С. 311. 4 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов: В 3 т. М., 1995. Т. 1. С. 6. 5 Например: «О. М. Фрейденберг описала такую стадию синкретизма, когда в образе нет именно движения — он выступает как нечто, не имеющее длительности, плоскостное, точкообразное, не связанное с предыдущим и последующим» (Бройтман С. Н. Историческая поэтика. С. 39). 6 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. С. 23–24. 7 Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 32. 8 Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф — имя — культура // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2000. С. 536. 9 Муравьев Д. П. Метафора // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 218. 10 Кассирер Э. Сила метафоры // Теория метафоры: Сб. науч. тр. М., 1990. С. 35. 11 Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. С. 51. 12 См. об этом: Бройтман С. Н. Историческая поэтика. С. 49 (исследователь здесь рассказывает о том, как дешифруются трудные для нашего понимания древние метафоры: полоть злачены перстни, хоронить золото, бильице, змеяное крыльице). 13 Здесь и далее подчеркиванием выделены метафоры сакральные (в структурном отношении), полужирным прямым — эстетические, полужирным курсивом — сравнения. 14 В нашей монографии (см.: Гавриков В. А. Мифопоэтика в творчестве Александра Башлачева. Брянск, 2007) мы разделяем творчество Башлачева на два больших этапа. Но здесь нет никакого противоречия: по многим аспектам тот этап, который в данном исследовании мы назвали средним, можно отнести и к большому второму этапу (т. е. в нашей теперешней классификации вполне можно объединить второй и третий этапы). Пока еще в работах о Башлачеве ни одна из этих концепций не получила безоговорочной поддержки ученых. 15 Свиридов С. В. Имя Имен: концепция слова в поэзии А. Башлачева // Русская рок-поэзия. Текст и контекст: Сб. науч. тр. Тверь, 1999. C. 69. |