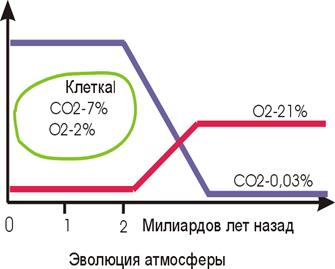О. Н. Турышева Проблематика чтения, вошедшая в европейскую литературу в Средние века, стала одним из важнейших пунктов литературной рефлексии и в словесности Возрождения. Характер взаимоотношений читателя с литературой в это время определяла традиционалистская установка средневековой культуры, характерный для нее культ предустановленных ценностей. В соответствии с данной установкой подлинность читательского опыта выверяется идеей абсолютности и незыблемости того образа, который запечатлен в Библии и единственно является образцом для подражания со стороны читателя. Речь идет о культе подражания образу Христа. В связи с этим светская литература, предлагавшая читателю другие образцы для подражания, осуждалась как санкционирующая следование профанному примеру и ведущая к забвению подлинного идеала. Литературный персонаж в отношении сознания читателя мыслился фигурой, конкурирующей с фигурой Христа, что, безусловно, дискредитировало светское чтение, превращало его в греховное действо. Подобный пафос нашел свое выражение в целом ряде литературных произведений этого времени. Однако в последующей литературе, и особенно в литературе позднего гуманизма, «духовная тотальность» (Л. Баткин) традиционализма постепенно разрушается. Об этом выразительно свидетельствуют те произведения, сюжет которых выстраивается вокруг фигуры читателя. Знаменательно, что тему чтения разрабатывают самые репрезентативные для данной эпохи произведения: «Дон Кихот» Сервантеса и «Гамлет» Шекспира. Характер взаимоотношений человека с книгой осмысляется в них по-разному, но в общем русле отказа от традиционалистского культа единого образца и в то же время как глубоко драматический. Обратимся к роману М. Сервантеса. Романная судьба его героя акцентирует самые драматические последствия чтения: как известно, увлечение рыцарскими романами оборачивается для Дон Кихота своего рода манией подражания. Он воображает себя странствующим рыцарем, намерен во всем следовать примеру идеальных героев рыцарских повествований. Недаром близкие Дон Кихота ради его излечения не находят иного средства, кроме ликвидации его библиотеки. Причем библиотека оказывается сожжена именно во имя здоровья Дон Кихота, чтобы лишить его источника безумных иллюзий, а вовсе не потому, что книги как таковые являются якобы источником зла и соблазна. Вспомним, какому тщательному досмотру подвергает священник (лиценциат, университетский человек) книги Дон Кихота, посмеявшись над простодушным предложением ключницы окропить книгохранилище святой водой и отказавшись распространить приговор о сожжении на некоторые книги в силу «очаровательности» описанных в них событий, мудрости и возвышенности размышлений автора, увлекательности интриги или присущего им героического пафоса. Некоторым находкам священник откровенно рад, собираясь ими пополнить свою библиотеку и в предвкушении удовольствия их перечитывания. Некоторые книги он предлагает цирюльнику беречь «как некую драгоценность», и только в силу фанатического усердия ключницы, одержимой книжной фобией, книги, помилованные священником, разделили участь тех «дерзких, нелепых и вредных» писаний, которые подверглись однозначному и безоговорочному осуждению. Собственно, само помешательство Дон Кихота состоит не только в том, что он вообразил себя героем рыцарского романа, но в большей степени в том, что романному идеалу он желает подчинить и действительность, т. е. не только свою жизнь превратить в роман, но и мир заставить подчиняться той целесообразности, которая свойственна сюжету литературного произведения. Впоследствии Дон Кихот преодолевает установку на бездумное подражание, превращается в самостоятельную этическую личность, но веру в тождество жизни и литературы он сохраняет. Эта вера и оборачивается пагубой для героя: убедившись в том, что не в его силах подчинить действительность этической логике рыцарского сюжета, Дон Кихот в отчаянии собственного бессилия умирает. Причем перед смертью он проклинает источник своих иллюзий — книги о странствующем рыцарстве.
На первый взгляд сюжет романа воспроизводит средневековое отношение к книге как источнику неподлинного самоотождествления. Но обратим внимание на то, что Дон Кихот в качестве образца жизнестроительства выбирает героев литературы, которая возводит этику своих персонажей к тому самому абсолютному образцу, которым в средневековой культуре был образ Христа. Ведь известно, что куртуазная идеология, заразившая Дон Кихота, сформировалась как светский вариант этики христианства, и потому повествовательной матрицей в куртуазной литературе является история самоотверженного и жертвенного подвига во имя других. Эту христианскую идею служения другим и заимствует из рыцарской литературы Дон Кихот. Следовательно, в данном случае изображение подражателя поверженным не может быть связано со средневековым осуждением чтения как ведущего к забвению идеала, ведь именно этот нормативный идеал Дон Кихот и воплощает в своем поведении. Недаром М. Унамуно обнаружил многочисленные совпадения его романной биографии с евангельской биографией Христа и провозгласил героя Сервантеса испанским Христом. Ранее подобным образом отождествил Дон Кихота с Христом Достоевский. Данные соотнесения представляются не просто фактом индивидуальной интерпретации романа Сервантеса вышеупомянутыми авторами: Дон Кихот действительно подражает Христу, но через посредничество героев рыцарской литературы, христианские корни которой (наряду с языческими) наукой установлены. Впрочем, и сущностное совпадение рыцарского служения и религиозного подвижничества также принято считать установленным фактом. Идея подобия рыцарской этики и этики евангельской находит свое подтверждение, например, в исследованиях о значении фигуры Франциска Ассизского для автора «Дон Кихота», который за три года до смерти вступил во францисканский орден. Франциск Ассизский, предположительный прототип Дон Кихота, пускается проповедовать евангельские истины после многолетнего увлечения рыцарскими романами [Iberica, 2005]. В связи с этим ирония, направленная на героя, который исходит из подражания идеалу, предписываемому культурой, требует особого объяснения. Напомним, что в рамках отечественной традиции авторской иронии в романе «Дон Кихот» было присвоено особое обозначение — «смех над высоким» (Л. Пинский). Формирование подобной смеховой тональности при этом связывается с принадлежностью романа эпохе трагического гуманизма, когда вера в воплотимость высокого идеала переживает свой кризис. Очевидно, что кризис переживает и запечатленный на страницах сервантесовского романа авторитет книги, поскольку она оказывается представлена как носитель высокого (и даже самого высокого), но мало соотносящегося с реальной действительностью и невоплотимого содержания. С этой точки зрения она и заслуживает горького проклятья смешного, разуверившегося старика. Книга как источник недостоверного, иллюзорного знания представлена и в трагедии Шекспира «Гамлет», а именно в знаменитом ответе Гамлета на вопрос Полония о том, что он читает: «Слова, слова, слова» — пустые, лживые знаки, не заслуживающие доверия. Именно такой взгляд на книгу венчает развитие ренессансной эстетики, которая изначально исходила из безусловного культа слова и книги. В недоверии книге выражается один из аспектов кризиса ренессансного гуманизма. В этом плане представляется важным подчеркнуть сходство между Гамлетом и Дон Кихотом, при том что традиционно принято исходить из их абсолютной противоположности. Дело в том, что романная эволюция Дон Кихота (как она описана в тексте) фактически тождественна эволюции Гамлета, которая, правда, в тексте не представлена, но о сути которой высказывается сам герой. Дон Кихот в начале романа исходил из истовой веры в абсолютную истинность художественного слова, в совершенную безупречность заимствованного из литературы образа и адекватность его реалиям действительности, но в заключительных главах романа Дон Кихот убеждается в иллюзорности своей веры в возможность подчинить жизнь литературному идеалу. Он разочаровывается в той концепции мира, которая нашла свое выражение в рыцарской литературе. Ту же самую внутреннюю эволюцию подразумевает и Гамлет в монологе о том, что он утратил «свою прежнюю веселость» (акт II, сцена 2). Мировоззрение, предшествовавшее тому трагическому взгляду на мир, который демонстрирует Гамлет по ходу действия пьесы, отличалось, по его собственному слову, «веселостью». Далее в этом монологе следует пассаж, который представляет собой общее место ранней ренессансной философии, — почти развернутая цитата из трактатов итальянских гуманистов о человеке как «венце творения» и «красе Вселенной»: «Что за мастерское создание — человек! Как благороден разумом! Как беспределен в своих способностях, обличиях и движениях! Как точен и чудесен в действии! Как он похож на ангела глубоким постижением! Как он похож на некоего бога! Краса вселенной! Венец всего живущего!» (пер. М. Лозинского) [Шекспир 1985, 372]. Возможно предположить, что этот утраченный (ранее «веселый») антропоцентризм Гамлета имеет книжное происхождение: он мог произрасти на почве чтения итальянских философов, чьи сочинения Гамлет, вероятно, штудировал в Виттенбергском университете. Эти взгляды, следовательно, не основаны ни на чем другом, кроме как на вере в чужое слово, а значит, априорны, подражательны. Отказ от этой веры и от самого источника ее — книги — Гамлет и демонстрирует в финальном высказывании этого монолога: «А что для меня эта квинтэссенция праха! Из людей меня не радует никто». Это возглас человека, пережившего горестное разочарование по поводу несовпадения слов с реальным положением вещей, разоблачившего книгу как источник иллюзий, кажущегося представления о мире. Преодолев свою прежнюю веселость, Гамлет уже способен отличить то, что кажется, от того, что есть. Дон Кихот этому учится на протяжении всего повествования, прямо на глазах читателя. Шекспир же показывает финальный акт драмы разочарованного сознания. Таким образом, содержательно «Дон Кихот» и «Гамлет» — это одна и та же история, история утраты веры в истинность прочитанного (в варианте Гамлета) и в его действенность (в варианте Дон Кихота), но художественно освоенная в разных модальностях — трагической и комической. В шекспироведении давно был поставлен вопрос относительно того, с какой книгой в руках появляется Гамлет во второй сцене второго акта. При этом неоднократно высказывалось предположение о том, что Гамлет читает «Опыты» Мишеля Монтеня, в пользу чего говорит множество цитат в речи героя шекспировской пьесы именно из Монтеня. В таком случае весь монолог Гамлета об утрате прежней веселости, включая финальное восклицание о человеке как квинтэссенции праха, есть свободная цитата из 12-й главы 2-го тома «Опытов» «Апология Раймунда Сабундского», в которой Монтень выражает скепсис в отношении ренессансного антропоцентризма: «Кто уверил человека, что это изумительное движение небосвода, этот вечный свет… этот грозный ропот безбрежного моря, — что все это сотворено и существует столько веков только для него, для его удобства и к его услугам? Не смешно ли, что это ничтожное и жалкое созданье, которое не в силах даже управлять собой и предоставлено ударам всех случайностей, объявляет себя властелином и владыкой всей вселенной, малейшей частицы которой оно даже не в силах познать, не то что повелевать ею!.. Нет слов, чтобы достаточно осмеять это бесстыдное приравнивание людей к богам!» [Монтень, 1992, II, 126]. В рамках данного предположения получается, что само сомнение Гамлета заимствовано из прецедентного литературного источника. Однако в этом случае логично было бы предположить, что ремарка во 2-й сцене 2-го акта («Входит Гамлет, читая книгу») подразумевает не «Опыты» Монтеня, а некую другую книгу — ту, которая и заслуживает презрительной реплики героя «Слова, слова, слова». Акцентировать отличие той книги, которая находится в руках Гамлета, от той книги, которую Гамлет цитирует в монологе об утрате прежней веселости, представляется достаточно важным, ведь «книга в руках» отвергается Гамлетом как источник иллюзий, а та книга, которая цитируется им (будем называть ее книгой на устах Гамлета), обладает содержанием, соответственным сокровенному переживанию Гамлета. При отождествлении «книги в руках» Гамлета с «книгой на устах» Гамлета оказываются возможны прямо противоположные выводы относительно направленности шекспировского сарказма: и вывод об осмеянии им ренессансного антропоцентризма итальянцев, и вывод об осмеянии антиантропоцентризма Монтеня. (Недаром в шексприроведении существует как мнение о том, что «Гамлет» — это антимонтеневская пьеса, предметом развенчания в которой является философия скептицизма; так и мнение о том, что «Гамлет» — это антиитальянская пьеса, предметом развенчания в которой является ренессансная вера в человека.). В целях разрешения этого противоречия сосредоточимся на возможной идентификации книг Гамлета. Впрочем, и при установке исследователя на отождествление книги в руках Гамлета с книгой на его устах возможна логически непротиворечивая идентификация источника, но только в одном случае: если в качестве такового рассматривать что-либо из сочинений итальянских гуманистов с антропоцентрическим пафосом. В этом случае скептическая реплика «Слова, слова, слова» вполне соответствует горестной интонации, с которой произносится монолог об утрате прежней веселости, а именно та его часть, которая представляет собой (как следует считать в рамках данного предположения) буффонную, издевательски поданную цитату из итальянских гуманистов. В рамках данной интерпретации следует отказаться от мысли об «Опытах» Монтеня как источнике гамлетовской цитаты и заключительный возглас данного монолога («А что для меня эта квинтэссенция праха!») приписать самому герою, сменившему ерническую интонацию при цитировании «итальянца» на трагическую констатацию человеческого ничтожества. И в этом случае скепсис Гамлета следует считать не заимствованным из французского источника, а оригинальным. Вообще, при решении проблемы идентификации гамлетовских книг (или книги) неизбежно возникает вопрос касательно шекспировской интенции: присвоено ли Шекспиром Гамлету скептическое мироощущение, созвучное взглядам Мишеля Монтеня, или же Гамлет изображен как персонаж, «от своего имени» цитирующий французского философа? При наличии текстовых совпадений между «Опытами» и монологами Гамлета, давно выявленных в науке, данный вопрос требует своей постановки: Гамлет изображен как философ, трагически переосмысляющий раннеренессансные первоисточники, или как прилежный ученик Монтеня, плагиатор тех его идей, которые соответствуют его сокровенному переживанию? Первичен или цитатен скепсис Гамлета? Если предполагать, что первичен, то очевидно, что Гамлет в монологе об утраченной веселости должен цитировать ту же книгу, которую он скептически отвергает как источник достоверного знания в разговоре с Полонием, и в данном случае это может быть только книга раннеренессансного итальянского «происхождения». Если же скепсис Гамлета цитатен, то в монологе о прежней веселости он может цитировать только Монтеня. В этом случае отвергаемая во 2-й сцене 2-го акта книга («книга в руках» Гамлета) никак не может быть «Опытами» Монтеня. По поводу этой загадочной книги высказывались самые разные предположения: исследователями назывались Ювенал, «Похвала Глупости» Эразма Роттердамского, «Государь» Макиавелли. Вполне определенное мнение по поводу «книги в руках Гамлета» выдвинул Н. Микеладзе в статье «Какую книгу читает Гамлет?», которая впоследствии составила фрагмент его монографии «Шекспир и Макиавелли» [см.: Микеладзе, 2006]. Правда, Н. Микеладзе не ставит вопрос о различии читаемого Гамлетом текста с цитируемым в монологе об утрате прежней веселости, в результате возникает впечатление, будто исследователь предлагает «свой» текст в качестве альтернативы «Опытам» М. Монтеня. С точки зрения Н. Микеладзе, в руках Гамлета находится «Испанская трагедия» Томаса Кида, известная также под названием «Иеронимо». Данная пьеса, не переведенная на русский язык, в подробном описании Н. Микеладзе представляет собой трагедию кровавой мести: центральный персонаж пьесы — это отец, который мстит за убийство сына. Действия Гамлета, пытающегося убедиться в виновности Клавдия, удивительно совпадают с той стратегией мести, которую изобретает Иеронимо. Если допустить, что Гамлет держит в руках именно эту книгу, то очевидно, что он использует ее в качестве сценария собственного поведения: он заимствует у Иеронимо и маску безумия, и его план постановки придворного спектакля как отдельного акта в драме мести. При этом, по замечанию Н. Микеладзе, существует значимое отличие стратегического замысла Гамлета от замысла Иеронимо, его предполагаемого литературного предшественника: последний использует постановку для непосредственного осуществления мести (в ходе сценического действия убийцы сына Иеронимо, выступающие как актеры на сцене, были убиты на глазах у зрителей). Для Гамлета же спектакль на тему убийства соперника — это способ поиска доказательства вины Клавдия, способ проверки показаний Призрака, «мышеловка» для врага, но не его «могила». На основе этого отличия Н. Микеладзе приходит к выводу о том, что «эволюция Гамлета прямо противоположна движению мысли Иеронимо»: Гамлет, с его точки зрения, обдумывает отказ от мести, «отреченье от умышленного зла». Данная трактовка как раз делает понятным высказывание «Слова, слова, слова»: готовясь к исполнению роли Иеронимо, Гамлет уже сомневается в безусловности и оправданности его злодейской тактики и, следовательно, в авторитетности самого источника этой тактики — книги об Иеронимо. Впрочем, на том же основании в руки Гамлета можно «вложить» и самого Макиавелли (что неоднократно делалось в литературоведении), тем более что «Государь» имеет непосредственно предписывающий характер и содержит конкретные рецепты успешной политической игры. Таким образом, в рамках данной трактовки Гамлет — это герой, сознательно выстраивающий свое поведение посредством выбора текста, содержащего подходящую модель поведения, критической интерпретации этого текста и реализации его трансформированного варианта в собственном поведении. Интересно, что во 2-й сцене 2-го акта поиск Гамлетом нужного ему текста находит непосредственное изображение. Так, приветствуя актеров, Гамлет предлагает одному из них вспомнить «рассказ Энея о Дидоне», «главным образом то место, где он говорит об убиении Приама». Считается, что в монологе, начатом Гамлетом и продолженном актером, Шекспир стилизует монологи из пьес своих предшественников, написанные по мотивам «Энеиды» Вергилия. (Очевидно, такого же рода стилизация предпринимается Шекспиром в отношении Монтеня в монологах Гамлета.) Выбор Гамлетом обработок именно этого античного сюжета, как отмечается в шекспироведении, глубоко символичен: Гамлет как бы присматривается к ролям литературных сынов — Энея, который спасает своего отца, и Пирра, который за своего отца мстит. Но, продолжая поиск текста, Гамлет останавливается не на том, который бы подстегивал его «вялую месть», а на том, который бы позволил ему разоблачить короля, предлагая актерам сыграть «Убийство Гонзаго». Намерением Гамлета выступить в качестве соавтора неизвестного науке драматурга неизвестной пьесы и заканчивается данная сцена. Таким образом, в конце сцены Гамлет выбрал текст, который позволил бы ему примерить роль убийцы на Клавдия. Текст с «партитурой» собственной роли, текст «для себя», очевидно, им уже выбран: это может быть тот текст, с которым Гамлет появляется в данной сцене и который критически переосмысляет («Иеронимо» Т. Кида, если исходить из версии Н. Микеладзе). Итак, Гамлет — персонаж, мыслящий сквозь призму книги, сквозь призму литературного текста. Книга оказывается для него и источником мысли, и источником жеста, модели поведения. При этом он самостоятельно и сознательно ищет нужный в его собственной ситуации текст (в этом его отличие от Дон Кихота, одержимого «готовой» идеей и действующего соответственно предписываемой этике). Гамлет же выбирает текст, который мог бы составить основу его поведения, из целого ряда вариантов. При этом текст, проповедующий отказ от мести (Библия), оказывается одним из множества других литературных источников стратегических моделей. На присутствии Священного Писания в спектре книг, среди которых Гамлет ищет «нужный» текст, настаивает Н. Микеладзе. Исследователь считает, что Гамлет отказывается от идеи мести, носителем которой является Иеронимо, принимая этику и логику Офелии, которая появляется в трагедии именно с Библией в руках и умирает со словами благословения, а не проклятия соответственно евангельской заповеди. Даже если исходить из данной интерпретации, очевидно, что этика Священного Писания является для героя не предметом безальтернативного приятия, а предметом сознательного и напряженного выбора, связанного с осмыслением также других книг. В драматургии Шекспира есть еще один донкихотствующий герой, изображенный с книгой в руках, вознамерившийся по книге усовершенствовать действительность и потерпевший фиаско. Это Просперо, главный герой трагикомедии «Буря». В шекспироведении Просперо недаром сопоставлялся с Гамлетом, а его экспериментальная попытка добиться раскаяния от брата-предателя и его сподвижников отождествлялась с драматургическим экспериментом Гамлета над совестью Клавдия [см.: Сорока, 1989]. История взаимоотношений героя с книжной мудростью фактически воспроизводит гамлетовский опыт разочарования в ней с той только разницей, что Гамлет сразу начинает сомневаться в продуктивности разыгрывания литературного сценария («Слова, слова, слова»), а Просперо расстается с энтузиазмом в отношении книги постепенно, разыграв, в отличие от Гамлета, отнюдь не один акт своей этической пьесы. В финале он отрекается от книг, на которые возлагал надежды относительно замысла очеловечивания Калибана и попытки исторгнуть покаяние у своих врагов. Этот жест усталого, разочарованного, расставшегося с иллюзиями человека фактически повторяет жест умирающего Дон Кихота. Итак, взаимоотношения героя с книгой в литературе позднего Возрождения осмысляются как глубоко драматические, что, в частности, связано с разрушением нормативности средневековой культуры: сакральный текст теряет свой абсолютный статус, интенция жизнетворчества распространяется на иные книги, которые, впрочем, как и Библия, не всегда удовлетворяют экзистенциальные потребности героя-читателя. Список литературы Микеладзе М. Шекспир и Макиавелли. М., 2006. Монтень М. Опыты: В 3 т. М., 1992. Сорока О. Просперо — победивший Гамлет? // Театр. 1989. № 8. Шекспир У. Гамлет, принц датский: Избр. пер. М., 1985. Iberica: К 400-летию романа Сервантеса «Дон Кихот». СПб., 2005. |