- Вид работы: Дипломная (ВКР)
- Предмет: Культурология
- Язык: Русский , Формат файла: MS Word 105,48 Кб
Юго-Восточная Прибалтика в I в. до н.э.-I в. н.э.: проблемы континуитета между древностями латенского и раннеримского времени на Самбийском полуострове
Юго-Восточная Прибалтика в I в. до н.э. – I в. н.э.: проблемы континуитета между древностями латенского и раннеримского времени на Самбийском полуострове Оглавление
Введение
Глава I. Проблема перехода от культуры западнобалтских курганов к самбийско-натангийской в позднелатенское – раннеримское время (I в. до н.э. – I в. н.э.)
1.1 Ранние закрытые комплексы самбийско-натангийской культуры и «княжеские» погребения юго-восточной Прибалтики
1.2 Чужеродные элементы в материалах ранней фазы самбийско- атангийской культуры
1.3 От культуры западнобалтских курганов к самбийско-натангийской культуре
Глава II. Проблема латенского фона на южном побережье Балтийского моря
2.1 Янтарный путь и позднелатенский импорт
.2 Эксклюзивные находки предметов латенской культуры в некельтской Европе
2.3 Носители латенской культуры на южном побережье Балтийского моря
Заключение
Список источников и использованной литературы
Приложения Введение
Актуальность исследования. Проблема взаимоотношений различных культур между собой, степень их взаимовлияния друг на друга – всегда сложный, неоднозначный и противоречивый процесс. Особый интерес представляет эта проблема на тех территориях, оставшиеся по тем или иным причинам вне поля зрения античных письменных источников. Это замечание касается, в первую очередь, исследования проблем взаимоотношений яркой для своего времени латенской культуры, соотносимой обычно с многочисленными кельтскими племенами (или кельтами, галлами и галатами письменных источников), и культурами южного побережья Балтийского моря на рубеже веков – от позднелатенского времени к раннеримскому (I в. до н.э. – I в. н.э.).
В первую очередь, это касается резкой смены или резкого перехода от одной археологической культуры к другой. Не должно вызывать сомнений в том, что во многом этот процесс представляется достаточно сложным, многогранным, а порой и неоднозначным. Между тем от решения вопроса о преемственности культур или их резкой смены зависит решение одной из важнейших проблем – автохтонности или привнесенности культуры со стороны (т.е. ее аллохтонности), эволюции местного населения или миграции инокультурных племен с других территорий. Памятники, совмещающие в себе отдельные элементы двух культур, могут свидетельствовать либо об эволюционном развитии, либо о сосуществовании носителей различных культурных традиций на одной территории в некотором фиксируемом хронологическом интервале.
Однако сама по себе смена археологических культур еще не знаменует окончательную смену населения: известны эпохальные трансформации культур, когда изменение облика археологических культур не было связано с приходом нового населения, а также на одной территории могли сменять друг друга культуры, не связанные между собой генетически. Но и в этом случае нет оснований предполагать полную смену населения.
Развитие культуры представляет собой изменение ее материальных и духовных компонентов, в результате которого формулируется новое качественное состояние культуры, изменение ее состава или структуры, возникновение, трансформация или исчезновение каких-либо культурных элементов и связей.
Как отмечает в своей работе Е.Б. Вознюк, диалог культур представляет собой растянутый во времени процесс, который характеризуется попеременной активностью передающего и принимающего, т.е. собственно культуры-донора и культуры-реципиента. Под цивилизацией-донором следует понимать культуру, в большей степени предоставляющую своим партнерам по взаимодействию возможность черпать из своего арсенала культурные нормы, ценности, смыслы. Цивилизация-реципиент представляет собой культуру, которая в процессе диалога в большей степени заимствует у своих партнеров их нормы, ценности, смыслы, ассимилируя их с базовыми, традиционными формами. Роли культуры-донора и культуры-реципиента с течением времени могут меняться. Кроме того, сами функции донорства и получения являются весьма условными: отдавая что-то в одном отношении, данная культура может выступать как получатель в другом аспекте.
В результате заимствования культурой-реципиентом инокультурных элементов, последние подвергаются в контексте воспринявшей их культуры разнообразным трансформациям. Это, в свою очередь, ведет к появлению оригинальных концепций, художественных практик, нового культурного стиля и т.д.
Таким образом, вкратце можно заключить, что диалог культур включает в себя трансляцию инокультурных элементов от одной культуры (цивилизации-донора) к другой (культуре-реципиента), их «закрепление» на инородной «почве», творчество в манере иной культуры, синтез «своего» и «чужого», «исконного» и «заимствованного» и создание чего-то принципиально нового. К этому явлению я буду еще неоднократно обращаться.
В то же самое время реальные процессы культурогенеза, обусловленные главным образом двумя взаимодействующими факторами, которые принято определять как традиции и инновации, с точки зрения их видовой характеристики могли быть весьма разнообразными. Наиболее узнаваемые из них:
1. преемственность – это передача культурных традиций на смежных хронологических этапах культурогенеза, преимущественно на одной и той же территории;
2. естественная инфильтрация, или диффузия, т.е. распространение сложившегося культурного комплекса или отдельных его элементов за пределы «своего» ареала, то, что в этнологии принято называть образованием «культурного круга»;
3. пространственное перемещение (условно – миграции) культурных ценностей на далекие расстояния с включением их в инокультурную среду, вызванное внешними причинами: природными катаклизмами, историческими (военными) событиями и др.
В свою очередь каждый из этих процессов сопровождается явлением аккультурации, под которой понимается замещение своих культурных элементов вновь приобретенными с сохранением значения как местных (традиционных), так и вновь включенных компонентов в формирование данного культурного комплекса (инновационных). Между тем в современной антропологической литературе процессы, которые обозначаются общим термином «аккультурация», предполагают трансфер определенного культурного содержания с помощью «носителей культурной передачи» (активные акторы) посредством «инструментов трансфера» (предметов и явлений) принимающей стороне (пассивные акторы). Понятие «активных» и «пассивных» акторов довольно условно, поскольку в процессе взаимодействия изменению подвергаются все взаимодействующие стороны. Аккультурация осуществляется при непосредственном контакте культурных групп, поскольку только в этом случае имеется возможность заимствования не только предметов и идей, но и стоящих за ними культурных смыслов. При этом проникновение и распространение культурных форм может происходить под внешним давлением или по свободной воле, осознанно или неосознанно, с разной степенью интенсивности, что имеет следствием разнообразие содержания процессов аккультурации – от эклектичного смешения культурных элементов до полной ассимиляции одной культуры другой.
При этом инновационные элементы, адаптируясь в местной среде, также часто становились традиционными. Такой механизм постоянного обновления культурных ценностей, по-видимому, можно считать одним из основополагающих в культурогенезе.
Однако трудно себе представить, чтобы распространение исключительно новых технологий (ноу-хау) происходило в отрыве от мировоззренческих систем древних обществ. С точки зрения рассматриваемой проблематики интерес представляют разыскания в области мифологических коннотаций древнейших ремесел и технологических процессов. Общеизвестен, к примеру, особый статус кузнецов и металлургов в традиционных обществах. Поэтому вполне логично, на наш взгляд, увязывать распространение новых мировоззренческих представлений с новыми технологическими приемами в сфере металлургии.
Передаваемые в традиционных культурах из поколения в поколение навыки взаимосвязаны с образными мировоззренческими смыслами этих культур. Образно говоря, вещи не только умели делать, но и понимали их смысл в соответствии с мировоззрением своей собственной культуры. Распространение технологической традиции невозможно без перемещения носителей этой традиции.
В обобщенной форме вопрос о распространении различных культурных влияний и традиций обстоятельно рассмотрел в своих двух работах А.Я. Брюсов. Первое к чему обращается автор – к критике так называемой теории диффузии, заключавшая в себе распространение элементов культуры только по одному магистральному направлению – с юга на север.
Однако, по мнению А.Я. Брюсова, более развитое производство южных городских центров доставляло на север разнообразные продукты своего производства, не уступающие по своему качеству, но при этом не стоит упускать из виду, что обмен был, прежде всего, двухсторонним. С севера южные города получали не только янтарь, соль и руду, но и изделия северных мастеров. Именно поэтому довольно быстрое распространение соответствующих элементов культуры среди древних племен Европы происходило в таком случае не в виде последовательных волн с юга на север (А.Я. Брюсов выступает противником «цивилизующей» роли Юга на Север), а постепенно, охватывая определенные области. Такой процесс мог протекать только при условии наличия постоянных мест, где осуществлялся
контакт, а также и обмен между различными племенами и народами. В археологии такие места довольно хорошо известны. Это, в первую очередь, места, где имелись естественные богатства, имевшие особую ценность в то время. К примеру, в районе Галле в средней Германии имелись богатые соляные источники и залежи руд. Южное побережье Балтийского моря славилось своим янтарем. Благодаря обмену янтарем стал возможен расцвет бронзового века в Дании.
К тому же сложившиеся еще в более раннее время (по крайней мере, с эпохи позднего неолита) междуплеменные центры обмена не только обогащали местное население, но и являлись проводниками новых культурных элементов (моды, технологии и т.д.), а также к обмену опытом.
В свою очередь автор отрицает наличие в древние времена бродячих или странствующих торговцев. Для обоснования высказанной точки зрения А.Я. Брюсов приводит следующий аргумент. Он заключается в том, что купец не способен был привить навык всего процесса металлургического производства: обучить технике добычи руды, выплавке из нее металла, отливке изделий в формах, изготовлению этих форм. Всему этому процессу могли обучить только литейщики, рудознатцы, горняки, металлурги. Поэтому уместнее и правильнее будет сказать не о «странствующих купцах», а о «бродячих ремесленниках».
Эта точка зрения находит свое косвенное подтверждение в данных письменных источников (правда, в эпоху поздней Античности): «Незадолго до этого приказала она (т.е. Гизо – жена Фелетея, или Фева – короля ругиев с 475 г.) взять под крепкую стражу неких золотых дел мастеров, родом варваров, работавших над Украшением знаков королевского достоинства. К этим мастерам в тот день, когда королева пренебрегла рабом Божьим, зашел, влекомый детским любопытством, юный сын упомянутого короля, по имени Фредерик. Тут же золотых дел мастера приставили к груди ребенка меч и объявили, что дали друг другу клятву: если кто-либо из стражи попытается к ним войти, то они сначала убьют малолетнего принца, а затем себя, ибо не имеют уже никакой надежды, изнуренные долгим пребыванием в заточении… Золотых же дел мастеров, вскоре принявших от нее клятву и отпустивших ребенка, королева также выпустила из заточения» (Severinus, VIII, 3).
В свою очередь М.Г. Гусаков отмечает один важный аспект о воздействии одной культуры на другую. В результате торговли или обмена чужеродные вещи или предметы становились образцами для подражания и тиражировались, но уже в местной среде, пусть с искажением, но они прочно входили в быт народа. С другой стороны, предметы так и оставались «чужими» и уходили в могилы вместе с их владельцами, не оставив продолжения в культуре. Как представляется второй вариант в большей степени отражает положение дел в ранней фазе контактов населения Самбии в I в. н.э.
Таким образом, в свете всего сказанного тема настоящей работы выбрана не случайно и вполне обоснованно. Для начала необходимо отметить, что в юго-восточной Прибалтике имеется развивающаяся еще с эпохи бронзы местная культура, так называемая культура западнобалтских курганов (в польской транскрипции «kultura kurhanów zachodniobałtyjskich»), датируемая VI-I вв. до н.э. и расположенная в юго-восточной Прибалтике, которая по невыясненным до сих пор причинам неожиданно исчезает, а на ее месте возникает совершенно другая, весьма отличная от предыдущей, археологическая культура (так называемая «самбийско-натангийская культура»), имеющая, однако, кельто-германские параллели, как в погребальном обряде, так и в инвентаре (на чем следует остановиться подробнее). К тому же данная проблема усугубляется практически полным отсутствием памятников переходного периода. При этом если этноним носителей культуры западнобалтских курганов неизвестен, то самбийско- натангийское население надежно ассоциируется с эстиями римского историка I в. н.э. Корнелия Тацита в его произведении «О происхождении и местоположении германцев» («De origine et situ Germanorum»). К тому же эстии Тацита говорят на языке близком британскому, т.е. кельтскому, почитают кабана и верховное женское божество, как и сами кельты.
Здесь необходимо сделать небольшое отступление и обратиться к вопросу о том кого следует понимать под этнонимом «эстии»?
Впервые античные письменные источники упоминают обитателей юго- восточной Прибалтики в I в. н. э. под именем Aestii. Этот этникон имеет германское происхождение и переводится как «восточный (народ)». При этом считается, что населявшие в эпоху римских влияний междуречье Вислы и Немана эстии являются прямыми предками пруссов.
Приведу описание эстиев, имевшееся в известном труде римского историка I в. н.э. Корнелия Тацита «О происхождении и местоположении германцев» (De origine et situ Germanorum): «Что касается правого побережья Свебского моря, то здесь им омываются земли, на которых живут племена эстиев, обычаи и облик которых такие же, как у свебов, а язык – ближе к британскому. Эстии поклоняются праматери богов и как отличительный знак своего культа носят на себе изображения вепрей; они им заменяют оружие и оберегают чтящих богиню даже в гуще врагов. Меч у них – редкость; употребляют же они чаще всего дреколье. Хлеба и другие плоды земные выращивают они усерднее, чем принято у германцев с присущей им нерадивостью. Больше того, они обшаривают и море и на берегу, и на отмелях единственные из всех собирают янтарь, который сами они называют глезом. Но вопросом о природе его и как он возникает, они, будучи варварами, не задавались и ничего об этом не знают; ведь он долгое время лежал вместе со всем, что выбрасывает море, пока ему не дала имени страсть к роскоши. У них самих он никак не используется; собирают они его в естественном виде, доставляют нашим купцам таким же необработанным и, к своему изумлению, получают за него цену» (Tac. Germ., XLV).
Первым что сразу бросается в глаза в приведенном известии это то, что язык эстиев «ближе к британскому», т.е. собственно к кельтскому. Почему римский историк соотнес язык этого народа именно с языком островных кельтов, а не с галльским, который был также очень хорошо известен римлянам? Во-первых, хорошо известно, что Корнелий Тацит являлся родственником Агриколы, губернатора Британии и благодаря этому мог иметь некоторое представление о языке британских (островных) кельтов. Во- вторых, ко времени написания своего труда большая часть Британии была уже завоевана римлянами. Поэтому нет оснований сомневаться в том сравнении, которое было сделано осведомителями Тацита, находившиеся либо в самой Британии, либо встретившие рабов из новой римской провинции в других местах обширной Империи. По всей видимости, британский язык, с которым сравнивается язык эстиев являлся одним из кельтских диалектов, но не был ни германским, ни «староевропейским» (венетским/италийским?). Ко времени Тацита Британия уже не представляла собой неизведанного острова или terra incognita посреди океана, расположенного на самом краю известного античному человеку мира.
Можно ли на данном основании утверждать о том, что эстии являлись кельтами? Очевидно, нет. Не стоит упускать из виду тот немаловажный факт, что в древнем мире язык не был решающим фактором при определении этнической принадлежности. Собственно кельтское происхождение и кельтский язык часто могли не совпадать. В качестве наглядной аналогии можно привести современную лингвистическую ситуацию, когда большинство людей хорошо знают английский язык, но это вовсе не означает, что все они – англичане.
Х. Янкун рассматривал эстиев как одних из германских племен.
Очень может быть, что древних германцев, как посредников Рима в торговле с эстиями, привлекала на Самбию перспектива участия в добыче и торговле янтарѐм. На роль посредничества в янтарной торговли и польская исследовательница А. Журавская.
Примененный Тацитом термин «племена эстиев» (Aestioum gentes) подсказывает, что это мог быть многоплеменной союз (выделение мое – В.А.), возможно, занимающий обширную территорию целого западнобалтского круга древностей на восточном побережье Балтики.
Между тем не стоит видеть в эстиях кельтов лишь на том основании, что они владели одним из кельтских языков. Уже неоднократно говорилось, чтобы владеть кельтским языком, совсем не обязательно было быть кельтом. Язык сам по себе может быть и не связан с этнической принадлежностью.
Также в эпоху Античности южное побережье Балтийского моря было непосредственно связано со знаменитым в это время торговым путем – Янтарным путем, связывающим Балтику с Caput Adriae. Представляется веским и вполне обоснованным предположение о том, что между южным побережьем Балтийского моря и территорией Среднего Подунавья существовали довольно тесные связи.
Сюда же следует отнести и постоянное или на протяжении длительного времени присутствие характерных латенских (кельтских) традиций (сильного кельтского культурного влияния). И этому также есть свое объяснение, т.к. в интересующий нас хронологический период (I в. до н.э. – I в. н.э.) кельты еще не сошли окончательно с исторической арены, продолжая доминировать на территории современной Европы: в частности, под их влиянием оставались обширные территории Центральной Европы, Галлии (современной Франции), Британских островов, современных Ирландии и Шотландии. Между тем некоторые исследователи при анализе латенских традиций на тех территориях, которые не были затронуты постоянными (на протяжении длительного времени) миграциями носителей латенской культуры, их непосредственным присутствием в среде местного населения, а лишь эпизодически или локально, предложили рассматривать их в виде своеобразной «кельтской вуали».
Здесь сразу возникает вполне закономерный и логичный вопрос. Как стоит понимать предложенный термин и непосредственно связанные с ним так называемые латенизированные археологические культуры, о которых речь пойдет дальше? На сегодняшний день в русскоязычной литературе по этой проблеме существуют две точки зрения. Первая из них сводится к тому, что наличие «латенской вуали» должно свидетельствовать либо о присутствии в среде местного населения, перенявшие эти самые традиции, кельтских переселенцев (К.В. Каспарова), либо сильно кельтизированного или смешанного в этническом отношении населения (И.П. Русанова).
Вторая точка зрения считает источником распространения латенских культурных традиций в некельтские регионы носителей ясторфской культуры (В.Е. Еременко, С.П. Пачкова). К этой же точке зрения склоняются и некоторые польские исследователи. Со своей стороны хотелось бы обратить внимание на одну любопытную особенность. Эти две точки зрения, как бы ни парадоксально не показалось, нисколько не противоречат друг другу, а лишь с разных ракурсов отражают одно и то же явление. Вполне очевиден тот факт, что возникновение различных культурных явлений или традиций (в нашем случае, кельтских) на самом раннем этапе не может происходить без непосредственного участия самих носителей этих традиций. В этой связи мнение К.В. Каспаровой выглядит объективным и вполне реальным. С другой стороны, нельзя не принимать в расчет то обстоятельство, что со временем немногочисленные и непосредственные носители могли смешаться с автохтонным населением и в продолжении определенного промежутка времени ассимилироваться, оставив после себя потомков или законных продолжателей. Последние и были носителями усвоенных культурных традиций, передавая их в дальнейшем по наследству – от старшего поколения младшему (для рассматриваемого времени такое положение характерно, к примеру, для ремесленников, передававших свой опыт и навыки сыновьям или ученикам). Именно в результате всего этого определенные культурные традиции продолжали существовать (в виде идей, образов, практик, технологических приемов и т.д.) даже тогда, когда непосредственные носители исчезли с исторической арены. В качестве хорошего примера и своего рода доказательства сказанного следует упомянуть о кризисе III в. н.э. в Римской империи, когда одним из его проявлений явилось возникновение на короткое время так называемой Галльской империи (260-274 гг. н.э.), а также приходится возрождение некоторых кельтских традиций, получившее название в литературе как «кельтский ренессанс».
Как уже подчеркнула В.П. Буданова, в «цивилизации варваров» присутствовало нечто общее, объединявшее народы Barbaricum, племена кельтов, германцев, скифов, фракийцев и др. В то же самое время, если в Греко-Римской цивилизации города являлись, прежде всего, местом управления, обитания элиты и культурными центрами, то города Барбарикума – это, прежде всего, центры торговли и ремесла. К примеру, крупные ремесленные мастерские и артели бродячих кельтских мастеров диктовали даже в самых дальних уголках Европы моду на латенские изделия. К примеру, письменные источники сохранили сведения о том, что кельтские ремесленники завоевали репутацию и известность в высокоразвитых южных областях: к примеру, в Риме проживал кельтский кузнец Геликон, которого римляне называли Бреннус.
Одним из проявлений кельтского культурного влияния является возникновение так называемых «латенизированных культур». К числу этих археологических культур относят, как правило, оксывскую, пшеворскую, зарубинецкую. Не будет преувеличением в число латенизированных культур добавить и ясторфскую культуру, соотносимую обычно с древними германцами.
Для рассматриваемой темы большое значение будут иметь две культуры, расположенные непосредственно на территории современной Польши – оксывская (свое название получила от наименования могильника на территории Поморского воеводства в северной Польше – Гдыня-Оксыве (Gdynia-Oksywie) на нижней Висле), и пшеворская культуры.
В оксывской культуре следует видеть культуру племен, которые населяли в конце II-I вв. до н.э. – I-IV вв. н.э. территорию северной и отчасти центральной части современной Польши.
Между тем среди исследователей первая из названных культур не получила четкого ареала своего распространения. Уже в позднелатенское время (примерно II-I вв. до н.э.) она занимала территорию Польского Поморья от р. Реги (северо-западная Польша) на западе почти до р. Пасленки (северная Польша) на востоке, на юге рассматриваемая культура немного не доходила до р. Варты (юго-западная Польша) и Нотець (на ней располагается город Иновроцлав). По р. Висле оксывские памятники распространялись практически до Хелмно (Chełmno) (Куявско-Поморское воеводство, северная Польша). В раннеримский период культура расширяется на юг и юго-восток. На северо-западе оксывские памятники охватывают левобережье низовий Одры (пограничная река между Польшей и Германией), на юге – граница проходит по р. Варта и Нотець, на юго-востоке – по Дрвенцу (северная Польша), а также в междуречье Дрвенца и Льны. Хронологический период существования оксывской культуры охватывает промежуток с конца II-I вв. до н.э. по I в. до н.э. Наиболее детальный анализ оксывской культуры представила в своей работе польская исследовательница Е. Бокиниек.
Что касается погребального обряда, то для данной культуры в позднелатенское время характеризуется господством ритуала трупосожжения с захоронением остатков кремации вместе с остатками погребального костра в основном в ямных могилах, изредка в урновых могилах с подсыпкой остатков, еще реже – в чистых урновых погребениях. В римский же период наряду с сохранением обряда трупосожжения получает распространение и обычай по обряду ингумации (трупоположения).
Керамика оксывской культуры в позднелатенское время происходит в основном из урновых могилс подсыпкой костра и в меньшей степени – из чистых урновых погребений, где сосуды служили вместилищем для остатков трупосожжения (кремации).
Хотелось бы обратить внимание и на то, что оксывская культура распологалась в непосредственной близости от культуры западнобалтских курганов. Проведенная К.Н. Скворцовым картография памятников обоих культур позволяет предположить, что в позднелатенское время между ними отсутствовала так называемая зона страха, т.е. та часть территории, которая по причине враждебных действий или взаимного недоверия оставалась незаселенной или просто пустовавшей.
Вторая из рассматриваемых латенизированных культур – пшеворская – получила свое название от г. Пшеворска (Przeworsk), Подкарпатского (Жешувского) воеводства в юго-восточной Польше, вблизи которого в с. Гаць в 1904-1905 гг. был исследован первый большой могильник этой культуры. В 30-х гг. XX в. Р. Ямка более полно охарактеризовал ее памятники, а также дал и современное наименование.
Пшеворская культура сформировалась в начале II в. до н.э. на основе местной поморско-клешевой культуры под сильным влиянием латенской (кельтской) культуры, просуществовав до IV- начала V в. н.э.
Что же представляли из себя эти так называемые латенизированные культуры? На этот счет существует следующая точка зрения. Она сводится к тому, что под «латенизированной культурой» следует понимать не только ее подверженность сильному в культурном отношении кельтскому влиянию, но и то, что в результате этого произошла структурная перестройка всех ее звеньев. Также признаком общности рассматриваемых культур будет являться и относительное единство культурных изменений, приводящее к частичным совпадениям их хронологических периодов, как друг с другом, так и с собственно латенской системой относительной хронологии.
Не менее значимой для выбранной темы является проблема резкого перехода от культуры западнобалтских курганов к самбийско-натангийской, не получившая должного освещения в научных трудах. Между тем от решения вопроса о преемственности культур или их резкой смены зависит решение одной из важнейших проблем – автохтонности или привнесенности культуры со стороны (т.е. ее аллохтонности), эволюции местного населения или миграции инокультурных племен с других территорий. Памятники, совмещающие в себе отдельные элементы двух культур, могут свидетельствовать либо об эволюционном развитии, либо о сосуществовании носителей различных культурных традиций на одной территории в некотором фиксируемом хронологическом интервале.
Однако сама по себе смена археологических культур еще не знаменует окончательную смену населения: известны эпохальные трансформации культур, когда изменение облика археологических культур не было связано с приходом нового населения, а также на одной территории могли сменять друг друга культуры, не связанные между собой генетически. Но и в этом случае нет оснований предполагать полную смену населения.
Развитие культуры представляет собой изменение ее материальных и духовных компонентов, в результате которого формулируется новое качественное состояние культуры, изменение ее состава или структуры, возникновение, трансформация или исчезновение каких-либо культурных элементов и связей.
Между тем некоторое понимание сути процесса резкого перехода от одной культуры к другой отразил культуролог Д.Г. Савинов. В первую очередь, исследователь исходил из так называемой концепции «центра и периферии», т.е. из их характера взаимоотношений. Потеря генерирующего значения центра и соответствующего возвышения периферии, где древние традиции сохранялись более длительное время, могли вызвать возвращение к ним как доминирующим в новых условиях и поэтому альтернативных по отношению к непосредственно предшествующим. С другой стороны, обращение к древним традициям как эталону культуры «нового» времени могло служить подтверждением легитимности вновь появившихся на исторической арене этнических группировок, для которых данный культурный комплекс, а также составляющие его элементы могли считаться изначальными, а, следовательно, социально детерминированными. Все это, в конечном итоге, создавало видимость (выделение мое – В.А.) разрыва между предшествующей и последующей традициями в целом. Однако эта интересная гипотеза требует еще своего научного подтверждения или опровержения на основе различных категорий археологических данных.
Однако на сегодняшний день вопрос, касающийся резкой смены от культуры западнобалтских курганов к самбийско-натангийской культуре остается достаточно дискуссионным, о чем еще будет сказано.
Степень изученности вопроса. Проблема этнических процессов, протекавших на территории юго-восточной Прибалтики на рубеже веков, т.е. c I в. до н.э. по I в. н.э., остается малоизученным сюжетом в современной российской археологической науке. Несмотря на этот пробел, следует упомянуть работы, которые, так или иначе, касаются проблемы, затронутой в настоящем исследовании.
В первую очередь, хотелось бы отметить работу польской исследовательницы Л. Окулич, посвященной непосредственно анализу культуры западнобалтских курганов.
Культура западнобалтских курганов занимала современную территорию Самбийского полуострова, нижний бассейн реки Преголь, Вармию, а также западную и восточную Мазурию. Ее хронологические рамки, как уже говорилось выше, определяются VI-I вв. до н.э.
В рамках данной археологической общности можно выделить следующие локальные группы памятников: самбийскую, западномазурскую и восточномазурскую. В свою очередь население западномазурской группы обычно соотносится с галиндами, восточномазурской – с судавами Птолемея, Самбии – с эстиями Тацита.
Анализируемой археологической культуре присуще курганные насыпи, содержащие трупосожжения в урнах, расположенных под каменной крепидой, выложенной из мощных валунов. Курганы представляют собой захоронение всех членов родоплеменного коллектива, что также принято считать одной из отличительных черт данной культуры. Отсутствие фибул и крайне небольшое количество оружия (редкие бронзовые топоры-кельты и мечи-кинжалы) в номенклатуре погребального инвентаря составляют другую ее специфическую черту. Погребальные урны, накрывавшиеся крышками-«мисками» типа VI согласно Л. Окулич-Козарын в виде чаш уплотненно- сферической формы, как правило украшены солярным орнаментом. Также стоит отметить, что погребальная керамика отличается наличием многочастных ручек (о чем будет сказано еще более подробно).
В свою очередь польский исследователь В. Новаковский, признавая отсутствие монолитности самой культуры западнобалтских курганов, является сторонником балтской принадлежности археологических культур в рассматриваемое время.
В свою очередь древности Самбии, Натангии и Надровии рассматриваются польским исследователем В. Новаковским как единое целое, причем культурные группы и смешанные зоны не выделяются. Первоначально польский исследователь использовал название «самбийская культура», но затем, предлагая не употреблять название средневекового племени сембов, ввел термин «ковровская культура». Позже им был введен другой термин – ―культура Доллькайм-Коврово (Dollkeim-Kovrovo-Kultur), а базовым для общности признается могильник Доллькайм (совр. Коврово). Такое обозначение, по мнению В. Новаковского, должно относиться к древностям Самбии и Натангии I-VI вв. н.э., вместо прежнего наименования «самбийско-натангийская группа прусской культуры».
Самбийско-натангийская культура (СНК) занимала территорию, расположенную в исторических областях Восточной Пруссии – Самбии и Натангии. Эта археологическая общность занимает Самбийское моренное плато, Прегольскую озерно-ледниковую и частично Полесскую моренную равнины. В настоящее время это – территория современной Калининградской области РФ, главным образом – Багратионовский, Балтийский, Гурьевский, Зеленоградский и Светлогорский административные районы, а так же город Калининград. Своими восточными границами культура частично захватывает Гвардейский, Правдинский и Полесский районы; южными – небольшую северную часть современной Польши (Браневский, Бартошицкий и Лизбарский повяты Вармийско- Мазурского воеводства).
В новом культурном образовании очень многое меняется. Традиционные для жителей I тысячелетия до н.э. некрополи прекращают функционировать, кроме того меняется процедура захоронения. Так, исчезает обычай погребения в виде коллективной кремации под курганом. На смену приходят новые виды погребального обряда, такие как обряд ингумации и погребение человека с конем или элементами конского снаряжения. При этом коллективные захоронения достаточно быстро уступают место индивидуальным погребениям. В номенклатуре погребального инвентаря также происходят кардинальные изменения, выражающиеся в появлении на могильниках большого количества фибул, монет, оружия и керамических сосудов абсолютно неизвестных до этого типов, изделия из янтаря, в обилии встречающегося на балтийском побережье. На сохранение преемственности с предыдущей культурой могут указывать лишь крайне небольшое количество типов сосудов, схожих с сосудами эпохи бронзы и раннего железного века, широкое использование втульчатых топоров, а также обычай перекрывать захоронения каменными кладками.
Среди российских исследователей, косвенно затронувших вопрос о соотношении культуры западнобалтских курганов и самбийско-натангийской культуры, следует назвать работы В.И. Кулакова, К.Н. Скворцова и Е.А. Тюрина.
В последнее время к затронутой проблеме обратилась и О.А. Хомякова.
Как отмечает исследовательница, в послевоенный период акцент с ведущей роли германского этноса был перенесен на идею несменяемости балтского населения на занимаемых им территориях с эпохи бронзы до раннего Средневековья. Формирование балтских племен соотносится с серединой I тыс. до н.э. Археологические культуры юго-восточной Прибалтики признавались, как правило, неделимой общностью, существовавшей в рамках «процесса развития балтских племен и объединения их в народности» до середины I тыс. н.э. Единая западнобалтская общность (на основании данных лингвистики и физической антропологии), уже начиная с эпохи раннего железного века, обозначалась термином «культура восточнопрусских (западнобалтских) курганов».
В настоящее время археологические культуры южного побережья Балтийского моря рассматриваются не как гомогенные общности, уравниваемые обычно с племенами и развивающиеся непрерывно от каменного века до середины I тыс. н.э., а как многоуровневые структуры, состоящие из различных слоев-паттернов (систем). Общим переломным моментом в формировании археологических культур «западнобалтского круга» считается распад культуры западнобалтских курганов на рубеже эр и начало эпохи римских влияний.
Сама О.А. Хомякова склоняется к тому, что «концепция линейного «этногенеза балто-славянских племен» исчерпала себя.
В свете сказанного целью настоящего исследования является анализ финальной фазы культуры западнобалтских курганов в контексте проблемы резкого перехода к самбийско-натангийской культуре на фоне активного кельтского (латенского) влияния в переходную эпоху – от позднелатенского времени к раннеримскому (условно, I в. до н.э. – I в.н.э.), а также выявление существования континуитета (преемственности) или же его отсутствия у этих двух культур в археологических исследованиях и публикациях, а также выявление наиболее ранних достоверных находок самбийско-натангийской культуры для периода В1 (первой половины I в. н.э.) и изолированных находок этого времени. Взятый за основу принцип в качестве постоянного учета фактора сильного латенского культурного влияния на протекающие процессы на южном побережье Балтийского моря, представляется наиболее перспективным и продуктивным, который способен объяснить некоторые спорные, но достаточно значимые моменты.
Задачами данного исследования выступают:
1. Выявление существования или отсутствия континуитета (преемственности) между двумя археологическими культурами – культурой западнобалтских курганов и самбийско-натангийской с учетом наличия сильного кельтского влияния в археологических публикациях.
2. Постановка вопроса о возникновении латенского фона на южном побережье Балтийского моря.
3. Роль варварской элиты и Янтарного пути и их влияния на культурно- этнические процессы в рассматриваемом регионе.
Объектом исследования выступает проблема перехода между двумя археологическими культурами, расположенными на территории юго- восточной Прибалтики (в современной Калининградской области), – от культуры западнобалтских курганов к самбийско-натангийской культуре.
Предметом настоящей работы является выявление археологических свидетельств перехода или же его отсутствия между указанными археологическими культурами с учетом наличия сильного кельтского влияния на рубеже I в. до н.э. – I в. н.э.
Источниковедческой базой работы послужили различные находки позднелатенского периода (I в. до н.э.), представленные фибулами, предметами вооружения (в частности, мечами), шейными гривнами (торквесами типа Havor), предметами ритуального назначения (котлами), деталями костюма (зооморфными застежками, ажурными поясами, исполненными в стиле техники opus interrasile), редко выходящими за пределы собственной кельтской территории монеты, а также керамический материал. Анализ указанных предметов будет дан в соответствующих главах работы.
Хронологические рамки охватывают отрезок времени от позднелатенского периода к началу раннеримского времени, т.е. I в. до н.э. – I в. н.э. Между тем сама специфика работы не исключает также и небольших хронологических отклонений в виде обращения (экскурсов) к более ранним историческим периодам.
Пространственные границы ограничиваются южным побережьем Балтийского моря, затрагивающее северную часть современной Польши, а также и Калининградскую область (от устья реки Вислы до современного устья Немана).
Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались описание и систематизация археологических вещей, присущих в целом для всего периода латенской эпохи. Не менее значимыми для данной работы являются сравнительно-типологический и сравнительно- аналитический методы. Для поиска аналогий и параллелей привлекались, в первую очередь, локальные материалы латенской археологической культуры на территории Центральной Европы (в первую очередь, территории Среднего Подунавья и Карпатской котловины), а также на территории Восточной Европы – в современной Украине. Не меньшее значение имеют материалы, происходящие с территории современной Франции, Германии и Скандинавии.
Научная новизна работы заключается в том, что проблема существования или отсутствия континуитета (преемственности) между культурой западнобалтских курганов и самбийско-натангийской впервые анализируется на основе археологического материала и во взаимосвязи с вопросом о наличии на южном побережье Балтийского моря сильного кельтского влияния.
Апробация результатов работы. Некоторые аспекты и положения затронутой проблемы настоящего диссертационного исследования были опубликованы в виде трех статей: «Западные кельты, южная Прибалтика и морские коммуникации на рубеже эр: состояние исследований» (Вестник ВГУ. Серия: История. Политология. Социология. 2016. №1. С. 28-32), «Кельты Центральной Европы, Янтарный путь и южная Прибалтика на рубеже эр: состояние исследований» (Научные ведомости БелГУ. История. Политология. 2016. Вып. 40. №22(243). С. 26-34) и «О способах распространения моды в варварских обществах: социальные элиты, ремесленники и мобильность (на примере кельтов эпохи латена)» (Stratum plus. 2017. № 4 (в печати)).
Практическая значимость. Данные и выводы настоящего диссертационного исследования могут быть использованы при изучении переходного этапа от позднелатенского времени к раннеримскому на территории южного побережья Балтийского моря. Предметы, привлекаемые в настоящей работе, позволяют расширить представления о материальной культуре населения южной Балтики в I в. до н.э. – I в. н.э., а также о тех этнических процессах, которые протекали в рассматриваемом регионе в указанное время. В то же самое время материалы работы могут представлять интерес при создании музейных выставок и экспозиций, подготовке специальных курсов вузов, посвященных древней истории юго-восточной Прибалтики, а также при написании обобщающих и научно-популярных работ.
Глава I. Проблема перехода от культуры западнобалтских курганов к самбийско-натангийской в позднелатенское – раннеримское время (I в. до н.э. – I в. н.э.)
.1 Ранние закрытые комплексы самбийско-натангийской культуры и «княжеские» погребения юго-восточной Прибалтики
Эпонимным могильником рассматриваемой археологической культуры стал могильник Доллькайм-Коврово (Dollkeim-Kovrovo). Анализируемый грунтовой могильник расположен в северной части ареала, связываемого обычно в период римских влияний и в эпоху раннего средневековья с западной частью балтского мира, в 0,7 км к западу от южной части поселка Коврово (бывш. Dollkeim) и в 5 км к югу от побережья Балтийского моря. Могильник занимает центральную часть мощной камовой возвышенности Dollkeimer-Berg (в настоящее время – гора «Близкая», расположенная на территории современной Калининградской области РФ).
Сам могильник был исследован в конце XIX века, а именно в 1879 году, основоположником прусской археологии Отто Тишлером (1843-1891). Вскрытые на могильнике погребения в большей части своей относятся к широкому хронологическому промежутку – I-VII вв. н.э.
Примечателен тот факт, что к западу от могильника Dollkeim располагается крупное месторождение янтаря (более подробно о янтарной торговли и ее роли будет сказано дальше).
Поскольку основной акцент в данном параграфе сводится к анализу погребений, относящихся, преимущественно, к I в. н.э., то представляется
уместным выделить те хронологические периоды системы которые будут использоваться в настоящей работе.
Заслуга в создании современной европейской хронологической системы принадлежит немецкому исследователю Отто Тишлеру. Польский исследователь Р. Волонгевич на материалах могильников Польши разделил фазу В1 на две подфазы В1а и В1b и датировал их соответственно 10-40-ми и 40-70-ми гг., а фазу В2 определил в пределах 70-170 гг. В свою очередь эта же фаза, по Й. Веловейскому, соответствует 70-180 гг., с подразделением на В2а (70-120 гг.) и В2b (120-180 гг.). У. Лунд Хансен для Северной Европы выделила следующие фазы: В1а (1/20-40/50 гг.), В1b (40/50-70/80 гг.), B2 (70/80-150 гг.). Для территории Восточной Европы по шкале М. Б. Щукина рассматриваемые фазы охватывают 8/10-18/35 гг. (В1а), 18/50-35/68 гг. (В1b) и 50/70-68/73 гг. (В1с). Фаза В2 определяется им в пределах 70/73-170/176 гг.
В целом, к этапу B (ок. 10-150 гг. н.э.) на могильнике Доллькайм- Коврово относятся 25 ингумаций, среди кремированных же погребений выявлены как урновые, так и безурновые захоронения.
Доллькайм -Коврово 1 – захоронение совершено по обряду ингумации. Могильная яма перекрыта вытянутой в плане кладкой, которая состоит из двух слоев камней, под которыми в свою очередь выявлены остатки деревянной гробовины. Обнаруженный в этом захоронении костяк сопровождали находки из бронзы – четыре фибулы типа AII, 42. Благодаря новейшим исследованиям удалось установить, что фибулы римского времени в северной части Барбарикума крепились на плечевой части одежды (так называемый «пеплос» женщин и плащи мужчин) преимущественно иглой вверх, что позволяло не рвать одежду об иглоприемник. Кроме того, в состав инвентаря Доллькайм-Коврово 1 входили пара браслетов, остатки поясного набора, а также железный умбон щита. Пряжку Г. Янкун относит к первой группе круглых пряжек с неподвижным язычком, продолжавших латенские традиции в раннеримское время. В. Новаковский указывает на отличие таких пряжек, которые изготавливались на Самбии из бронзы, от синхронных и однотипных им железных артефактов, известных в пшеворском ареале. Он относит их к пшеворскому импорту. В свою очередь В.И. Кулаков не соглашается с этим предположением и полагает, что рассматриваемые артефакты досконально соответствуют веспасианской моде Норика и Паннонии, тогда как пшеворские железные пряжки представляют собой упрощенные реплики провинциально-римских прототипов. Более подробно сюжет с упомянутыми поясами будет рассмотрен ниже.
Рассматриваемое погребение было ориентировано по линии северо- восток-юго-запад. Прямоугольное в плане. Глубина в пределах предматерика составляла 0,3 м. Придонная часть ямы была заполнена золистым переотложенным суглинком, перекрытым прослойкой интенсивно-золистого суглинка.
Можно заключить, что Доллькайм-Коврово 1 на основе обнаруженных в нем фибул датируется периодом B1b, т.е. 50-70/80 гг. н.э. Скорее всего, это погребение содержало останки мужчины-воина и женщины.
Доллькайм -Коврово 4 – захоронение было совершено по обряду ингумации, перекрытой круглой в плане каменной двухслойной кладкой. В состав погребения входили четыре бронзовые фибулы (тип AII,42, AIII,61, AIII,62), пара бронзовых браслетов, стеклянные бусы, бронзовая накладка- фалера, небольшой нож, «крюк от котла» – бронзовая застежка от пояса и поясная накладка. Подобные поясные крюки, которые встречаются на Самбии, Г. Янкун справедливо связывает с деталями оксывских поясов из Нижнего Повисленья этапа Блюме (Blume B). Данное погребение содержало в себе останки женщины и датируется по сочетанию фибул типа AII,42 и глазчатых фибул «прусской серии» этапами B1a-B1b, т.е. 20-70/80 гг. н.э.
Доллькайм -Коврово 7 – захоронение совершено по обряду ингумации. Инвентарь погребения представлял собой: пара бронзовых фибул типа AIII,60, бронзовые пряжка и детали пояса римского легионера типа cinculum, железные умбон щита типа Верманд (Vermand) и рукоять щита, сосуд-приставка, железный втульчатый топор, два копья. Судя по характеру инвентаря, погребение Доллькайм-Коврово 7 содержит останки мужчины- воина и по пряжке датируется 15-70 гг. н.э. По мнению В.И. Кулакова, обнаруженный в захоронении легионерский пояс попал на Самбию в результате миссии Квинта Атилия Прима, которая была предпринята для налаживания контактов по знаменитому Янтарному пути на завершающем этапе правления императора Нерона (54-68 гг. н.э.).
Доллькайм -Коврово 8 – погребение по обряду ингумации (или кремации в виде группы каьцинированных костей?), перекрытая каменной кладкой прямоугольной в плане формы. Инвентарь: бронзовые фибулы типа AII,36 и наконечник ремня, аналогичный из погребения Доллькайм-Коврово
7. Доллькайм-Коврово 8 содержит, судя по инвентарю, останки мужчины и женщины. Оно датируется рубежом этапов B1a/B1b (60-е гг. I в. н.э.).
Доллькайм -Коврово 9 – захоронение было совершенно по обряду ингумации. Инвентарь представлял собой следующее: бронзовые накладки на головной венчик, фибула типа AII,42, три фибулы типа AIII,60, два браслета, сосуд-приставка, маленькое профилированное кольцо, янтарная бусина сфероидной формы, многочисленные золотостеклянные бусины (некоторые сдвоенные), «эмалевые» бусины, кусок железа. По всей видимости, Доллькайм-Коврово 9 содержит останки женщины и по фибулам должно датироваться этапом B1 (20-70/80 гг. н.э.).
Доллькайм -Коврово 10 – погребение произведено по обряду ингумации. Инвентарь: бронзовая фибула типа AIII,61, пряжка типа 2 группы Ф Мадыда-Легутко (F Madyda-Legutko), связываемая с населением бассейна р. Эльба этапа B1, сосуд-приставка с ручкой, железные копье небольших размеров, длинная узкая коса, четыре куска необработанного янтаря. Таким образом, дата захоронения мужчины-воина должна относиться к этапу B1 (20-70/80 гг.н.э.).
Доллькайм -Коврово 11a (буквенный индекс рядом с номерами погребений обозначает нахождение группы могил, как, например, Доллькайм-Коврово 11a и Доллькайм-Коврово 11b под единой каменной кладкой) – захоронение в виде ингумации. Инвентарь состоял из следующих предметов: пара бронзовых фибул типа AIII,61, бронзовый браслет, бронзовые пряжка и детали поясного убора в стиле opus interrasile, три сфероидные янтарные бусины, «эмалевые» бусины, множество золотостеклянных (в том числе сдвоенных) бусин, два массивных бронзовых несомкнутых кольца небольшого диаметра. Данное захоронение, содержащее по характерной специфике инвентаря, останки женщины, датируется I в. н.э.
Доллькайм -Коврово 14b – захоронение в виде урновой кремации под каменной кладкой. Инвентарь: бронзовая фибула типа AIII,61, фрагмент бронзового браслета, сосуд-приставка. Доллькайм-Коврово 14b по обнаруженной фибуле этапом B1 (возможно, шире – в пределах I в. н.э.).
Доллькайм -Коврово 16 – ингумация совершена под каменной кладкой. Инвентарь: бронзовые фибулы типа AII,42 и типа AIII,61 с железными деталями, удила, железные втульчатая пешня (один из видов лома для пробивания льда) или вток (т.е. втулка) копья, копье, копьѐ, пара бронзовых шпор типа Гинальски Е6 (Ginalski E6) с декоративным кольцом у острия, сосуд-приставка с ручкой, нож, скребница, точило, кусок кремня, железный пинцет, точило, кусок янтаря, две «деревянных рукояти», скребница и прочие предметы. Пешня и удила были обнаружены в стороне от каменной кладки. По всему, захоронение Доллькайм-Коврово 16 содержало останки мужчины-воина и по фибулам, а также шпорам, датируется этапом B1-B2 (20-150 гг. н.э.), но вероятнее первой половиной хронологического отрезка.
Доллькайм -Коврово 17 – погребение-ингумация. Инвентарь: бронзовые пара фибул типа AIII,61, фибула типа AIV,74, фибула типа AIII, 63, два сосуда-приставки, пять широких стеклянных полусферических «кнопок», в отверстие которых вертикально был вставлен бронзовый стержень с полусферическим навершием, втульчатый топор, удила с бронзовыми обоймицами-держателями повода, нож. Судя по инвентарю, погребение Доллькайм-Коврово 17 датируется по фибулам этапом B1a (20-50 гг. н.э.).
Доллькайм -Коврово 27a – ингумация, совершенное под каменной кладкой. Инвентарь: бронзовые фибулы типа AIV,74 и типа AIII,61, нож с серповидным чеканным орнаментом по лезвию, копье. Судя по фибулам, Доллькайм-Коврово 27a датируется этапом B1b (50-70/80 гг. н.э.).
Доллькайм -Коврово 27b – урновая кремация под каменной кладкой. Инвентарь: бронзовые гривна с коническими концами (тип Havor), типологически относящаяся к прототипу наиболее раннего варианта гривен группы 2 (этапы B2/C1), браслет со сферо-коническими концами, сосуд- приставка с ручкой, урна с храповатой нижней частью тулова. По находке гривны, погребение Доллькайм-Коврово 27b датируется периодом B1 (20- 70/80 гг. н.э.).
Доллькайм -Коврово 27с – урновая кремация под каменной кладкой. Инвентарь: бронзовая фибула типа AIII,59, копье, урна, железное (?) остриѐ с четырехугольным сечением. Судя по специфике инвентаря, Доллькайм- Коврово 27c содержит останки мужчины и его следует датировать по фибуле этапом B1 (20-70/80 гг. н.э.).
Доллькайм -Коврово 27d – ингумация под каменной кладкой. Инвентарь: изготовленные из бронзы три фибулы типа AIII,61, гривна с
коническими (скорее, с пирамидальными) концами, накладки на головной венчик, «дефектное» кольцо. По всей видимости, погребение Доллькайм- Коврово 27d содержит останки женщины и датируется по фибулам этапом B1 (т.е. 20-70/80 гг. н.э.).
Доллькайм -Коврово 30 – захоронение представляет собой ингумацию, которая была перекрыта кладкой из трех слоев камней. Инвентарь: бронзовые фибулы типа AIII,57, фалера, темно-синяя стеклянная и золотостеклянная бусины, пряжка в стиле opus interrasile и детали поясного набора, фрагмент ножниц, небольшой нож, бронзовые четырехугольные накладки с четырьмя заклепками, круглая накладка с заклепкой в центре и серебряным покрытием, согнутая накладка (находки последних трех позиций относятся, по всей видимости, к наборному панцирю легионера). По фибуле и поясному набору Доллькайм-Коврово 30 датируется этапом B1 (20- 70/80 гг. н.э.).
Доллькайм -Коврово 34 – представляет собой кремацию в виде группы кальцинированных костей. Инвентарь: две бронзовые фибулы типов AIV,73 и AIV,74, сосуд-приставка. По фибулам Доллькайм-Коврово 34 датируется этапом B1b (50-70/80 гг. н.э.).
Доллькайм -Коврово 35a – урновая кремация под каменной кладкой. Инвентарь: фрагмент бронзовой фибулы типа AIII,58 или AIII,62, которая спеклась с бритвой, железная пряжка со сдвоенным язычком типа 40 группы G Мадыда Легутко (G Madyda-Legutko), копье, два втульчатых топора/пешни, один из которых (больших размеров) вместе с копьем перекрывал урну, железное острие, нож, кусок кремня, кусок необработанного янтаря. Судя по вещам погребения, в Доллькайм-Коврово 35a покоятся останки мужчины-воина и датируется по фибуле этапом B1 (20- 70/80 гг. н.э.).
К описанным погребениям из могильника Доллькайм следует прибавить и захоронения, происходящие из других могильников (могильники Большое Исаково (бывш. Lauth)), укладывающиеся в соответствующие хронологические рамки:
Лаут 233 – захоронение совершено по обряду трупоположения (т.е. ингумация). Инвентарь сопровождается сосудом с двухчастной ручкой, в районе плеч погребѐнной – фибулы типов AII,42 и AV,155, на запястье – браслет со «змеевидной головкой» подтипа 1, две обоймицы с крючком от пояса местного происхождения и «ладьевидные» накладки к поясу, бусины, нож. Погребение датируется по обнаруженным фибулам фазой В1 (20-70/80 гг. н.э.).
Также на территории юго-восточной Балтики В.И. Кулаковым были выделены условно названные «княжеские» захоронения. Для периода B интерес представляют следующие два погребения.
Одно из них расположено в Гвардейском районе (бывш. Ilishken, Kr. Wehlau). Захоронение без № (II-o/Nr) представляло собой ингумацию с сопутствующим конским захоронением. Инвентарь: римский кинжал в железных плакированных серебром ножнах, бронзовая фибула типа AIV, 72, известный лишь по описанию умбон щита с несохранившимся острием, железные удила (рис. ). Погребение датируется по фибуле AIV, 72 фазой B1b (50-70/80 гг. н.э.).
Второе захоронение расположено в поселении Поваровка Зеленоградского района (Kirpehnen, Kr. Samland). Погребение III (Ki-III) было совершено по обряду кремации в двух урнах. Инвентарь первой урны содержал: сосуд-приставка, бронзовая, покрытая серебром шарнирная провинциально-римская фибула, бронзовые, покрытые серебром детали конского оголовья типа Вимозе (Vimose «b»), бронзовые детали оголовья типа Vimose «a», бронзовая глазчатая фибула типа AIII, 61, бронзовая гривна, долото со втулкой, орнаментированный костяной гребень, маленькая бронзовая провинциально-римская ложечка, нож, кресало, три железных обоймицы, скребница, четыре оселка.
Инвентарь второй урны, которая была перекрыта камнем: обломки умбона, фрагменты оковки щита, наконечник копья, втульчатый топор, железный пинцет, скребница, железная пряжка, а также обломки железных предметов.
Интересно, но если оголовье «a» и глазчатая фибула типа AIII, 61 датируются периодом B1a (20-50 гг. н.э.), то оголовье «b» и шарнирная фибула датируется фазой C1 (200-275 гг. н.э.). Появление предметов I в н.э. в могиле III в. н.э. может быть связано либо с трофейными предметами, относящими к этому времени (I в. н.э.), либо их помещали с ритуальными целями как наследие предков умершего.
Таким образом, на основании имеющегося археологического материала удается выявить погребальные комплексы на территории юго-восточной Прибалтики, относящиеся к периоду I в. н.э. Также для этого времени характерно преобладание обряда ингумации, но в то же время присутствует и обряд кремации. Нельзя не обратить внимания и на то обстоятельство, что для I в. н.э. присуще наличие импортных изделий, поступавших с территории Римской империи (или из ее провинций). 1.2 Чужеродные элементы в материалах ранней фазы самбийско-натангийской культуры
Одним из элементов, связанных с деятельностью мужчин-воинов, являлись конские оголовья с бронзовыми наносниками и цепными поводьями, распространившимися на Самбии в I-III в. и явившиеся яркими показателями янтарной торговли эстиев с населением Подунавья. Немецкая исследовательница С. Вильтберс-Рост убедительно доказала кельтское происхождение этих оголовий, впоследствии ставших принадлежностью римских воинских коней. В.И. Кулаков выдвинул предположение о принадлежности оголовий типа Вимозе неким воинам-балтам, контролировавшим северный отрезок Янтарного пути по р. Висле.
Такова может быть судьба части конских оголовий анализируемого типа, на фазе В2/С1 (150-200 гг. н.э.) распространившихся в Барбарикум из дунайских провинций Империи и ставших своего рода материальным маркером всадников, которые контролировали часть Янтарного пути. Однако некоторые европейские исследователи рассматривают конские оголовья типа Вимозе (в том числе – и на Самбии) продуктом римской торговли, хотя общеизвестно, что конские оголовья такой степени сложности не может являться серийным объектом торговли и должен подбираться к лошади индивидуально.
Интересными женскими предметами самбийско-натангийской культуры выступают шейные гривны, известные как «гривны с конусовидными окончаниями (тип "Хавор")». Их детальный анализ провела в своей работе О.А. Хомякова. На основе проведенного анализа, исследовательница высказала предположение об их североевропейском (скандинавском) происхождении, откуда они на фазе B2 (70/80-150 гг. н.э.) распространились в ареале самбийско-натангийской культуры. Гипотеза о кельтском (латенском) происхождении данных гривен О.А. Хомяковой была отвергнута. Убедительные аналогии этим гривнам она видит в материалах германских культур Скандинавии.
Между тем В.И. Кулаков склоняется к версии об их кельтском (латенском) происхождении.
Как отмечала польская исследовательница Я. Розен-Пшеворская, торквесы в качестве шейных гривен в период раннего латена первоначально носились женщинами, лишь немного позже они стали выступать отличием знатности и уже носились мужчинами.
Еще одной интересной категорией предметов выступают так называемые «самбийские» пояса, представляющие собой ажурные поясные гарнитуры, исполненные в так называемой технике opus interrasile. В предвоенное время Х. Янкун одним из первых европейских археологов обратил внимание на норико-паннонские пояса как показатель торговли эстиев с Подунавьем. Также к продуктам этой торговли, которые вели эстии с Нориком и Паннонией в начале нашей эры, кроме поясов он считал «крыльчатые» фибулы.
Детальный анализ ажурных поясных гарнитур, исполненных в так называемой технике opus interrasile, был проведен В.И. Кулаковым и О.А. Хомяковой.
Что касается вопроса возникновения и появления ажурных поясных накладок в юго-восточной Прибалтике, то исследовательница отрицает их провинциально-римское или норико-паннонское происхождение (т.е. собственно, кельтское). Ближайшие аналогии представленным накладкам встречаются в центральноевропейских культурах (в частности, в пшеворской и вельбарской), а также в круге древностей Северной Европы. Вместе с тем появление этих поясных гарнитур связывается с функционированием в I в. н.э. Ажурные поясные гарнитуры, исполненные в технике opus interrasile, датируются периодом B2 (70/80-150 гг. н.э.).
В свою очередь В.И. Кулаков склоняется к провинциально-римскому или норко-паннонскому происхождению анализируемых поясных гарнитур. Их появление в юго-восточной Прибалтике связывается исследователем с дипломатической миссией римского легионера в эпоху императора Нерона. Однако эту точку зрения не разделяют О.А. Хомякова и М.Г. Гусаков.
Наличие на Самбийском полуострове в погребениях (в частности, в женских) ажурных поясных гарнитур (или «самбийских» поясов) О.А. Хомякова рассматривает как «существование «высших» групп внутри племенного общества»134. Она не исключает того, что ажурные гарнитуры, не относящиеся к категории инсигний на межрегиональном уровне, могут считаться маркером формирования элит – одного из локальных символов групповой идентичности, принадлежности к социальным коллективам, осуществлявшим функции перераспределения (редистрибуции) и обмена в рамках янтарной торговли.
Между тем представленные погребения В.И. Кулаков не склонен относить к «княжеским», поскольку они «не содержат останков племенных князей традиционного для древнегерманского общества вида». Судя по всему, сложившееся на южном побережье Балтийского моря полиэтничное общество, включавшее в себя различные племенные группы, выработало критерии захоронений своей гетерогенной родовой и воинской элиты, которые отличались от критериев германских обществ.
В настоящее время существует определение археологических признаков дружины как сообщества профессиональных воинов:
1. Особый погребальный обряд, в первую очередь воинские ритуалы;
2. Особый стиль декора на предметах вооружения и личного убора;
3. Полиэтничность воинской субкультуры.
Таким образом, в целом, для фаз B1-B2 (т.е. в целом для всего I в. н.э.) могильника Доллькайм характерно преобладание захоронений по обряду ингумаций (особенно для фазы B1), хотя (правда, редко) имеют место и погребения по обряду кремации.
Мужские погребения характеризуются, в частности, включением в состав погребального инвентаря одиночной фибулы, ножа, поясной пряжки, реже – умбона щита. Между тем в данном случае примечательны в отношении погребального инвентаря захоронения Доллькайм-Коврово 7 и Доллькайм-Коврово 30.
В свою очередь, отличительными признаками женских могил Доллькайма периода B1-B2 являются наличие в них многочисленных (до шести экземпляров в одном комплексе) фибул групп типа AIII и AIV. В погребальных комплексах эти застежки непременно взаимовстречаются с деталями так называемых норико-паннонских поясных наборов и с браслетами самбийского варианта типа Каменьчик (Kameńczyk). При этом некоторые из фибул (типы AIII,62, AIII,63) и не представленный в рассматриваемом материале тип AIII,46 (этот тип фибул отсутствовал в могилах Доллькайм) послужили образцами для местного производства фибул типов AIII,57 и AIII,59. Эти фибулы так называемой «прусской серии» характерны не только не только для севера Самбии фаз B1b и B2, но и для вельбарской культуры любовидзской фазы (фаза B1).
Примечательно, что количество фибул, которое достигает в I в. н.э. на Доллькайме шести экземпляров в одном женском комплексе, соответствует принципам женского убора, распространившимся в эпоху Юлиев-Клавдиев на широких пространствах Барбарикума в междуречье рек Эльбы и Вислы, а также в Южной Скандинавии. Однако отсутствие в вельбарских могилах любовидзской фазы оружия и орудий труда создает некоторое впечатление «женского характера погребального набора». Этот вывод, в свою очередь, справедлив и для погребений Доллькайма раннего периода существования могильника. Таким образом, можно заключить, что древности I в. н.э. на рассматриваемом могильнике по номенклатуре инвентаря и его типам вполне сопоставимы (но не полностью) по своим признакам с вельбарскими. Подавляющая часть керамики Доллькайма находит свое соответствие в типологии вельбарской погребальной посуды. Древнейшие погребения эпонимного могильника самбийско-натангийской культуры (Доллькайм-Коврово 4, Доллькайм-Коврово 17) по обнаруженным в них фибулам типов AIII,42, AIII,62 и AIII,63 могут относиться ко второй четверти I в. н.э. 1.3 От культуры западнобалтских курганов к самбийско-натангийской культуре
После сказанного необходимо будет коснуться первоочередной проблемы настоящего исследования, а именно проблемы перехода от культуры западнобалтских курганов к самбийско-натангийской культуре. В современной балтской археологии данная проблема считается вопросом уже давно решѐнным. Я. Ясканис, анализируя погребальные ритуалы западных балтов римского времени, писал: «В раннеримском периоде курганы существуют в северо-западном регионе, на полуострове Самбия и в северо- восточной части Мазурского Поозерья». Относимые ко времени не позже II в. н.э., эти курганные погребения определяются как пережитки ритуалов раннего железного века. Считается доказанным, что такая архаика погребального обряда показывает преемственность обычаев жителей Самбии второй пол. I тыс. до н.э. и генетически связанных с ними эстиев. Материал I в. н.э. из Самбии и прилегающих земель убедительно свидетельствует о том, что подкурганные погребения здесь в раннеримское время не производились. За «курганы» археологи принимали каменные кладки, возвышавшиеся над могилами эстиев не более чем на 1 м.
Однако Л. Окулич-Козарин поставила под сомнение и одновременно считала недоказанной не только генетическую связь между культурой западнобалтских курганов и древностями Самбии раннеримского времени, но и балтский этнический характер рассматриваемых древностей раннего железного века. В целом, польская исследовательница отрицает наличие генетической связи (а, значит, и хронологического хиатуса) между культурой западнобалтских курганов и самбийско-натангийской культурой. Получается, что носителей последней нельзя считать потомками и продолжателями традиций носителей культуры западнобалтских курганов? Не совсем так. К примеру, на определенное сохранение преемственности (выделено мной – В.А.) с культурой западнобалтских курганов, как уже указывалось выше, могут указывать небольшое количество типов сосудов, схожих с сосудами эпохи бронзы и раннего железного века, широкое использование втульчатых топоров, а также обычай перекрывать захоронения каменными кладками.
Не подобный ли процесс протекал на территории юго-восточной Прибалтики в интересующий нас хронологический период? По всей видимости, ответ может быть положительным.
Примечательно, что Е. Окулич в своѐм обзоре древностей западных балтов писал об отсутствии в юго-восточной Балтии на рубеже эр каких-либо культурно-этнических перемен. При всем этом значительные отличия от древностей культуры западнобалтских курганов заметны в юго-восточной Прибалтике уже около 50 г. н. э. Из этого следует, что для юго-восточной Прибалтике первой половины I в. н.э. можно говорить о существовании непродолжительного хиатуса при переходе от культуры западнобалтских курганов к новой общности – самбийско-натангийской культуре. С.П. Пачкова, исследовавшая проблему зарубинецкой культуры и ее взаимоотношений с кругом латенизированных культур Средней Европы, определяла хиатус как время политической, экономической и социальной нестабильности региона, которая сопровождает переходные исторические периоды от времени начала гибели одной культуры до начала формирования другой. Именно поэтому 30 – 50 лет в истории отдельных регионов не могут рассматриваться как время полного замирания жизни и обезлюдения.
В.И. Кулаков в целом поддерживает взгляды Л. Окулич-Козарин, но с некоторыми оговорками. Появление новой этнической общности в лице носителей самбийско-натангийской культуры вовсе не означает полное исчезновение автохтонного населения Самбийского полуострова. Встреченные в материалах Доллькайма захоронения, нередко осуществленные в рамках различных ритуалов, но перекрытые единой каменной кладкой, предполагают сохранение у самбийского населения в I-III вв. н.э. обычаев коллективных (семейных) гробниц, типичных для более ранней культуры западнобалтских курганов. Уже в гальштатский период предки позднейших эстиев по мере надобности наполняли перекрытые курганными насыпями каменные ящики, которые включали урны с прахом людей, связанных узами родства. Примечательно, но рудименты этого обычая, которые заключались, по всей видимости, в длительном (может быть, на протяжении 1-2 поколений, т.е. 25-50 лет) захоронении останков в общей могиле, встречаются не только на могильнике Доллькайм, но и на других погребальных памятниках юго-восточной Прибалтики. Таким образом, можно сделать вывод о том, что на Самбии в эпоху римского влияния сохранялись западнобалтские традиции (по крайней мере, традиции культуры западнобалтских курганов).
Уже упоминавшийся до этого Я. Ясканис, проведший исследование и анализ погребального обряда обитателей южного побережья Балтийского моря римского времени, пришел к выводу о том, что с самого начала нашей эры на обрядность западных балтов, основной признак которой определялся как «зарывание остатков кремации в землю», серьезное влияние оказывали кельтские и в меньшей степени римские традиции.
Между тем для древностей Barbaricum I в. н.э. на Самбийском полуострове отмечается довольно плотное скопление погребений с оружием, что, в свою очередь, разительно отличает этот регион от низовий р. Вислы – вельбарского ареала любовидзской фазы (B1). Объяснение этому феномену следует искать в том влиянии, которое оказывало на данный регион юго- восточной Прибалтики в интересующее время население пшеворской культуры.
Недостаточно изученной в рамках самбийско-натангийской культуры остается керамика. Польским исследователем В. Новаковским была предпринята попытка выявить отдельные типы керамического материала рассматриваемой культуры. К наиболее раннему типу погребальной керамики был отнесен биконический сосуд с многочастной ручкой, восходящий к урнам группы IV поздней фазы культуры западнобалтских курганов.
Также следует упомянуть и о такой категории керамического материала, как сосуды с налепами. Среди встречающихся находок можно выделить следующие, рассмотренные на материалах могильника Lauth/Большое Исаково на территории Калининградской области. Среди них представляют интерес следующие.
Подтип 1.1 – сосуды с расширением тулова в средней трети высоты, высота около 18 см, «… у ребра встречаются налепные вертикальные выступы (рудименты ручек?)».
Подтип 1.2 – «сосуды с расширением тулова несколько ниже середины высоты…, обязательными являются лишь конической формы налепы (от трѐх до пяти). Сюда же относятся и сосуды с ручками, крайне немногочисленные на Самбии».
Позднее типология лепных сосудов была уточнена В.И. Кулаковым на основании разработок польского исследователя Р. Волонгевича. Так, к сосудам с налепами добавились горшки с S-видным профилем типа Викау (Wiekau) (тип Ryszard Wolągiewicz VIIIC), которые обладали гусеницеобразными многочастными ручками (восходят к сосудам раннего железного века типа Герте 120F (Gaerte 120F)), тип Dollkeim, у которых идущий по плечику пролощѐнный орнамент был, как правило, разделѐн тремя вертикальными налепами овальной или прямоугольной формы, тип К6 – горшки с одиночными налепами на плечике, тип R(yszard) W(olągiewicz) XVIIIB (RW XVIIIB) – горшки биконической формы, имевшие по три налепа на ребре, плоские миски типа RW XI. В целом керамику с многочастными ручками и налепами юго-восточной Прибалтики В.И. Кулаков датирует довольно широким хронологическим периодом в пределах III-II вв. до н.э. – V в. н.э.
Между тем на поздней фазе развития латенской культуры у кельтских племѐн, населявших верховья р. Эльба, получают распространение урны крупных размеров, снабжѐнные для удобства их переноски тремя ушками на плечике.
Стоит обратить внимание и на такие сосуды, как керамические сосуды с четырьмя налепами. Данные налепы были предназначены, как правило, для подхватывания в четыре руки тяжѐлой вместимости с сыпучими продуктами (зерно, мука). Традиция изготовления таких деталей крупных сосудов для хранения продуктов известна у западных германцев на поздней фазе латенской культуры (ок. 10 г. до н.э. – 20 г. н.э.).
Керамические материалы разной культурно-этнической принадлежности IV в. до н.э. – V в. н.э. из Центральной и Восточной Европы указывают на то, что округлые ручки, ушки и выступы сфероконической формы, представленные на сосудах под венчиком или на их ребре в количестве три или более экземпляров выполняли сугубо утилитарную функцию. Они служили для предохранения человеческих рук от контакта с поверхностью сосуда, нагретой или помещѐнной внутрь его горячей пищей (кухонные горшки), или пеплом и кальцинированными костями, перемещѐнными в сосуд с погребального костра (урна).
Между тем при рассмотрении керамического материала из могильников культуры западнобалтийских курганов выясняется, что урны биконической формы, нередко накрываемые плоскими мисками, в раннем железном веке распространѐнные в ареале упомянутой культуры в юго- восточной Балтии, также имели ушки. Правда, большее распространение в погребальном инвентаре западнобалтийских курганов имели биконические лощѐные кувшины с двухчастными ручками. Они характерны для финальной (IV) фазы развития этой культуры, датируемой временем около I в. до н.э. – I в. н.э.
Для выбранной темы интерес представляют керамические сосуды типа Рышард Волонгевич XVII (RW XVII или proto-Dollkeim) из погребений Лаут 195 и Лаут 233. Восходящие к формам урн культуры западнобалтийских курганов раннего железного века, эти сосуды являются одним из немногих свидетельств преемственности местных древностей раннего железного века и самбийско-натангийской культуры. По данным, добытым при раскопках могильника Доллькайм-Коврово, сосуды типа Рышард Волонгевич XVII относятся к началу нашей эры. В отличие от керамики раннего железного века, сосуды анализируемого типа содержат уже не кальцинированные кости погребѐнного, а заупокойные дары. Сопутствующий такому сосуду материал погребения Лаут 233 позволяет датировать тип proto-Dollkeim фазой В1. Свое название «proto-Dollkeim» этот тип обрѐл от термина «тип Dollkeim» (по В. Новаковскому), генетически предшествуя ему. Если сосуд-приставка типа Рышард Волонгевич XVII обладает сфероидным туловом и двухчастной ручкой, то производный от него горшок типа Dollkeim, сохраняя указанную форму, уже лишѐн ручки. Правда, «промежуточные» формы сосудов ещѐ сохраняют рудименты одинарных двухчастных ручек в виде вертикального, стоящего на ребре налепа, изредка – с двумя отверстиями.
В целом, как можно убедиться, керамический материал периода B (т.е. всего I в. н.э.) несет на себе следы традиций вельбарской культуры любовидзской фазы (фазы B). В этой связи возникает интересная проблема, связанная с характером взаимоотношений самбийско-натангийской культуры и вельбарской на раннем этапе своего существования. Как соотносятся обе эти культуры? Однако этот вопрос, требующий своего детального и обстоятельного анализа, пока что выходит за рамки затронутой темы.
Таким образом, проанализированный эпонимный могильник Доллькайм-Коврово, впрочем как и весь Самбийский полуостров (особенно, его западная часть) не содержит материалов, свидетельствующих о том, что в раннеримское время (т.е. на фазе B или на протяжении всего I в. н.э.) юго- восточное побережье Балтийского моря было сплошь заселено западнобалтскими племенами. Бурные события эпохи римского влияния, выражавшиеся, прежде всего, в так называемом прессинге, который осуществлялся на носителей культуры западнобалтских курганов их западными и южными соседями, по всей видимости, привел к перемещению значительной части это населения в восточном и северо-восточном направлениях. Уже на фазе B1 древности Самбийского полуострова не обнаруживают связи ни по обряду (ингумация), ни по инвентарю (за исключением некоторых моментов как в погребальных традициях, так и в керамическом материале) с предыдущей культурой.
Присутствие носителей культуры западнобалтских курганов в интересующий период отмечается в восточной части Мазурского Поозерья, где на этапе B1 продолжают развиваться западнобалтские традиции, выражающиеся в частичном сохранении курганной обрядности с кремацией, в составе инвентаря присутствуют биконические сосуды.
Можно предположить, что в Мазурское Поозѐрье (т.е. собственно в ареале судинов/судавов) в I в. н.э. переместилась значительная часть западнобалтского населения Самбийского полуострова.
Памятники венгожевской (Węgorzewo) (восточномазурской) и мронговской (Mrągowo) (западномазурской) на раннем этапе своего существования (на фазе конца B1 – начала B2) по основным своим признакам во многом схожи. По всей видимости, прав Е. Окулич, считающий, что разделение мазурской группы на ряд локальных вариантов носит в раннеримский период чисто картографический момент. Ранние этапы своего существования (B1 и B2 – от начала I в. н.э. до середины II в. н.э.) представлены большей частью в могильниках венгожевской группы (такие могильники, как Можтыны (Mojtyny), Богачево-Кула (Bogaczewo-Kula), Бабета (Babeta), Книс (Knis)). Из остальных микрорегионов известны лишь отдельные находки, которые позволяют теоретически относить становление поселенчества в них к началу фазы B1.
Интересным представляется возникновение на территории Мазурского Поозерья грунтовых могильников. Как полагает Г.Н. Пронин, появление в раннеримский период грунтовых могильников в этом регионе связывается с ответвлением самбийско-натангийской культуры. На это указывает единый погребальный обряд. Как уже отмечалось выше, для всего этапа B (в целом, I в. н.э.) в самбийско-натангийской культуре характерно наличие обряда трупоположения (хотя встречается и кремация), иногда под курганами. Однако преобладающими на протяжении всего раннеримского периода захоронения по обряду ингумации в Мазурском Поозерье не стали. Между тем взаимными контактами с населением соседних территорий вполне объяснимы и локальные отличия в погребальной обрядности. Не вызывают сомнения преобладание на ранних этапах связей с Самбийским полуостровом, что нашло отражение в соответствующем инвентаре, особенно в керамическом материале. Основные формы керамики, имевшие распространение в грунтовых могильниках Мазурского Поозерья, являются развитием керамических форм не только в этом регионе, но и в ареале самбийско-натангийской культуры в период B1. Также в некоторых могильниках (Bogaczewo-Kula, Babeta) встречаются керамические формы, бытовавшие на Самбийском полуострове еще в позднелатенское время.
При этом не стоит думать, что со значительным передвижением носителей культуры западнобалтских курганов в Мазурское Поозерье, на Самбийском полуострове не осталось части этих носителей. По всей вероятности, какая-то часть (может быть и небольшая) продолжает проживать на Самбии. На это обстоятельство указывает один из типов погребальной керамики носителей самбийско-натангийской культуры – сосуды-приставки биконической формы, украшенные зигзагообразным орнаментом и снабженные псевдоручками.
К.Н. Скворцов, рассмотревший вопрос о западных балтах и их соседях в римское время, относительно проблемы перехода от культуры западнобалтских курганов к самбиийско-натангийской (резкой смены погребального обряда и погребальной традиции) склоняется к следующей мысли. Согласно ей рассматриваемый переход был обусловлен переселением неизвестной нам части населения из Южной Скандинавии на южное побережье Балтийского моря. В данном случае имеется в виду появление на территории Померании в северной Германии группы памятников Одры- Венсеры. Вероятно, что такая миграция, которая привела в итоге к возникновению вельбарской культуры, могла дать импульс и для возникновения самбийско-натангийской культуры (на осколках прежней культуры западнобалтских курганов). Возможно, что такая миграция населения с севера имела место быть. Однако не меньшее значение, если даже не первоочередное, в данном случае приобретает то культурное влияние, идущее в виде импульсов с юга.
В период возникновения самбийско-натангийской культуры ее носители, отрезанные от наиболее удобного участка торгового пути, который проходил вдоль побережья Вислинского залива, вполне возможно реализуют свои торговые контакты через территорию родственных им носителей богачевской культуры. Логично предположить в этой связи, что в конце фазы B1 (ок. 70/80 гг. н.э.) балтийский янтарь мог транспортироваться по древней субречной системе Прегель-Неман, а далее по мелким рекам с истоками, расположенными в Мазурском Поозерье, через зону богачевской культуры в ареал пшеворской культуры.
О.А. Хомякова предполагала, что дельта Вислы (на ней располагается современный польский крупный город и порт – Гданьск) занимала ведущее положение в янтарном обмене региона, играла роль основного «фильтра» и источника влияний и инноваций для племен, проживавших восточнее реки Паслѐнки (Pasłęka).
Между тем немецкими археологами (в частности Х. Эггерсом), на основании имеющихся различий в характере могильников, давно признано, что река Пасленка представляет собой этническую границу между германскими и балтийскими племенами. В пользу данного положения немецкий исследователь приводит то обстоятельство, что бронзовые импортные сосуды более чем на 90% происходят их погребений, то это, по всей видимости, отражает обычай, типичный для германской территории, давать их покойникам. Между тем описанный обычай остается неизвестным балтийским племенам, которые в противоположность западным соседям, клали в могилы римские монеты. Однако такое мнение Х. Эггерса необходимо уточнить, поскольку несколько экземпляров римских бронзовых сосудов обнаружены на территории Литвы (преимущественно, в богатых захоронениях, отождествляемых М.М. Михельбертасом с членами родовой знати).
Как полагает К.Н. Скворцов, «в связи с этими изменениями у исследователей возник ряд полярно противоположных гипотез об этнической принадлежности жителей региона северной части бывшей Восточной Пруссии, согласно которым либо местная культура являлась моноэтничной и была прямой преемницей культуры западнобалтских курганов, либо она могла сформироваться на полиэтничной основе, с социальной верхушкой, состоявшей в том числе из представителей германцев (готов), кельтов и даже венедов».
По мнению О.А. Хомяковой, исследовавшая вопрос о женском уборе самбийско-натангийской культуры, «определяющее влияние на формировании комплекса украшений оказала активизация процессов обмена и межкультурпых связей в результате «подключения» населения Самбии и Натангии к «янтарной торговле», а также возможное появление в местной балтский среде иного этнического компонента».
В то же время Е. Окулич на основе проведенного им анализа ажурных поясных накладок, которые развивали паннонские традиции I в. н.э. и скопление которых было обнаружено О. Тишлером в погребениях могильника Доллькайм, позволило относить время формирования самбийско-натангийской культуры к периоду B2. К.Н. Скворцов склонен относить время возникновения рассматриваемой культуры к рубежу фаз B1 и B2, т.е. к последней четверти I в. н.э. Между тем сам момент появления самбийско-натангийской культуры не удается четко вычленить из контекста позднейшей фазы культуры западнобалтских курганов.
Таким образом, проанализированный в данной главе археологический материал позволяет сделать следующие предварительные выводы.
Представленный в настоящей главе археологический материал позволяет заключить, что на территории южного побережья Балтийского моря протекали довольно активные межплеменные процессы, возможно, способствовавшие «затуханию» прежде существовавшей здесь культуры западнобалтских курганов. На ее месте возникла совершенно новая и отличная от предыдущей самбийско-натангийская культура, носителями которой именуются «эстии» письменных источников. В этой связи в археологической литературе сложились следующие точки зрения по данной проблеме.
Польская исследовательница Л. Окулич отрицала наличие генетической связи (преемственности) между носителями культуры западнобалтских курганов и самбийско-натангийской культуры.
В свою очередь другой польский исследователь В. Новаковский предполагает существование еще и в I в. н.э. «анахроничных» групп носителей культуры западнобалтских курганов. Также им отрицается и сильное культурное влияние со стороны латенской культуры в конце I в. н.э. – начале I в. н.э.
Компромиссной точки зрения, суть которой также заключается в констатации отсутствии преемственности между культурой западнобалтских курганов и самбийско-натангийской, но с сохранением некоторых западнобалтских традиций, придерживаются В.И. Кулаков и Е.А. Тюрин.
Между тем К.Н. Скворцов и О.А. Хомякова являются сторонниками теории о скандинавском «импульсе» как основном факторе изменений, происходивших на южном побережье Балтийского моря (в частности, на Самбийском полуострове).
М.Б. Щукин склонялся к мысли о том, что в середине – второй половине I в. н.э. эстии-балты не составляли, по всей видимости, большинства на Самбийском полуострове, поскольку они были потеснены пришлыми группами из Подунавья («блуждающими венедами»), влекомые перспективной торговлей янтаря.
Однако в качестве одного из возможных объяснений перехода от культуры западнобалтских курганов к самбийско-натангийской культуре можно выдвинуть рабочую гипотезу, суть которой сводится к следующему. В самом начале I в. н.э. на территории юго-восточной Прибалтики, которую в это время занимают носители культуры западнобалтских курганов, происходят какие-то неизвестные на сегодняшний день процессы (миграции различных племен, осуществляющие давление на носителей западнобалтских курганов?), итогом которых становится «затухание» основного центра (или ядра) этой культуры. Поскольку рассматриваемая культура включала в себя несколько локальных групп памятников (самбийскую, западно- и восточномазурскую), то ее традиции за пределами основного центра сохранялись в них значительно дольше. По причине того, что территория самбийской локальной группы была богата залежами янтаря, явилось, возможно, именно для возникновения на основе этой группы новой культуры – самбийско-натангийской. Основателями этой культуры стали, по всей видимости, те самые «тацитовские» эстии, представлявшие собой конгломерат различных племен. Возможно, что среди них присутствовали, не только представители североевропейского германского мира, но и, по всей видимости, какие-то сильно кельтизированные или «кельтоидные» группы населения (или же население, называемое как «между кельтами и германцами»). Безусловно, что они принадлежали к представителям привилегированной социальной группы (элите). Их основной интерес к этому району был обусловлен, очевидно, контролем янтарного торгового пути, по которому происходил обмен и торговля с различными регионами европейского Барбарикума и Римской империей.
Описанный процесс находит некоторое свое подтверждение в материалах более ранних эпох, а именно в материалах усатовской культуры (приблизительно 3500-2800 гг. до н.э.) эпохи энеолита (палеометалла), расположенной в Северо-Западном Причерноморье (западнопонтийский регион). По мнению С.В. Ивановой, усатовская культура отличается от круга родственных ей культурных образований, прежде всего, «восприятием чужих традиций, технологий, артефактов, что могло происходить при непосредственных контактах. Стимулом и основой культурных контактов были и те возможности, которые предоставляли природные ресурсы их обладателям». Что же могли предложить носители усатовской культуры своему различному инокультурному окружению? Не вызывает сомнения в том, что в качестве такого наиболее ценного природного эквивалента обмена и торговли, причем бывшего в избытке у «усатовцев», выступала соль (по всей видимости, племена усатовской культуры стоит рассматривать как первых солеваров в Северо-Западном Причерноморье, чья деятельность отразилась в археологических источниках). Более близкой аналогией (по времени) к сказанному являются соляные залежи (соляные шахты) знаменитого австрийского Гальштатта (Hallstatt), став, благодаря последней, центром известной и яркой для своего времени гальштатской археологической культуры (или гальштатской культурно-исторической общности). Примечательно и то, что при раскопках кельтского поселения вблизи Бад Наухайм (Bad Nauheim) в Центральной Германии были обнаружены остатки сооружения для выпаривания соли.
В связи с этим не должен вызывать сомнения тот факт, что у племен, проживавших на южном побережье Балтийского моря (в частности, на Самбийском полуострове, а также и в районе современного Гданьска), в качестве ценного и почитаемого природного эквивалента выступал янтарь. Торговля и обмен янтарем могли способствовать «привлечению» на южное побережье Балтийского моря в латенскую эпоху не только первоклассных кельтских предметов, но и новейших технологических приемов и знаний в различных областях (в первую очередь, в области металлургии, ремесленном производстве и т.д.).
В этой связи кажется верным предположение К.Н. Скворцова о том, влияние латенизированных культур на культуру западнобалтских курганов, прослеживаемое в керамических традициях (о которых довольно подробно говорилось выше), было более значительным, чем считалось до этого.
Однако не стоит думать, что в связи с произошедшими переменами, имевшими место быть на территории юго-восточного побережья Балтийского моря, все прежнее население в одночасье перестало здесь существовать. Напротив, именно присутствием бывших носителей культуры западнобалтских курганов можно убедительно объяснить сохранение некоторых особенностей погребальной традиции предыдущей культуры среди носителей самбийско-натангийской культуры, благодаря чему происходит своего рода легитимизация новых представителей в среде местного западнобалтского населения. Как мне представляется, именно с позиций концепции «центр-периферия» возможно объяснить (не только гипотетически, но и археологически) резкий и скачкообразный переход от одной археологической культуры к другой на рубеже веков.
В следующей главе на обширном археологическом материале будет показано, что южное влияние в лице латенской культуры и традиций играло не самую последнюю роль, если даже не первоочередную, в процессе формирования культурного облика населения южного побережья Балтийского моря на рубеже веков. латенский культура янтарный погребение Глава II. Происхождение латенского фона на южном побережье Балтийского моря
.1 Янтарный путь и позднелатенский импорт
Чем были привлекательны для различных варварских племен, населявших Барбарикум, т.е. территории, находившиеся за пределами античного мира (собственно Греции и Италии), латенские культурные традиции?
П. Берфорд предлагает рассматривать латенский стиль сквозь призму его социальной среды. К примеру, как полагает К. Хокс, западное латенское искусство представляет собой накопление и отображение богатства элиты для поддержания своего социального положения. Между тем желание кельтской элиты контролировать больше средств для накопления богатства рассматривается как движущая сила «кельтской экспансии».
Вместе с тем П. Берфорд выделил в своей работе пять значимых аспектов для объяснения феноменального для своего времени распространения так называемого «латенского стиля жизни» («La Тène Lifestyle»):
1. Компактное поселение из совокупностей большого числа представителей латенской культуры (или по терминологии П. Бэрфорда – «кельтоговорящие»(Celtic-speaker)) образует социальную организацию, которую можно назвать «племенами». В этих областях вся социальная система соответствует латенским моделям и может обнаруживать соответствия в стиле одежды, погребальном обряде, а также, возможно, системы верований с теми, которые существуют в других кельтоговорящих сообществах. В некоторых областях такая социальная организация приняла форму предгосударственного образования с развитием кельтских оппидумов (oppida) и использованием монет. Возможно, такая ситуация сложилась в долине реки Дунай. Однако нужно отметить, что развитие социальных организаций, породивших оппидумы и т.д., не зависело просто от лингвистической близости, поскольку эти явления развиваются только в некоторых областях кельтской Британии и даже намного позже, чем на европейском континенте;
2. Дисперсное, т.е. рассеянное, заселение представителями латенской культуры способствовало формированию элиты среди большей части различного в этническом отношении населения. Различный материал в латенском стиле и погребальные обряды, по всей видимости, представляют собой как навязчивую популяцию и аккультурацию автохтонным населением иностранных художественных стилей и идей. Это являлось отражением доминирования и символа статуса. В этих районах могут возникать некоторые латенские особенности (такие как керамика, изготовленная на гончарном круге, фибулы, художественные стили, иногда ингумация в погребальном обряде), но социальная и экономическая организации редко принимают тот же вид, что и в первом случае (к примеру, отсутствие оппидумов или монет). Возможным примером такого типа поселений может быть юго-западная Польша, сильно подверженная влиянию кельтскоязычных племен южных Карпат. В определенных обстоятельствах господство элиты может привести к языковому перемещению, как в случае «колонизации» западной Шотландии из Ирландии и Бретани из Корнуолла в V в. до н.э. В обеих этих областях использовались кельтские языки;
3. Рассеянное заселение кельтоговорящих представителей как части более крупного в этническом отношении населения. Имеющийся материал в латенском стиле и погребальные обряды можно интерпретировать как представляющие попытки кельтского меньшинства сохранить свою культурную идентичность в стрессовой ситуации. Если, однако, отказаться от такого понятия, как «кельтская» этничности, то не следует ожидать существования какой-либо особой разницы в материальной культуре этой небольшой группы населения среди окружающего его большинства. В свою очередь присутствие малочисленную категорию носителей латенской культуры оказывает минимальное влияние на социальную и экономическую организацию того общества, в которое они включены. Вполне возможно, что тацитовские эстии могут быть отнесены именно к этой категории;
4. Непостоянные вооруженные вторжения носителей латенской культуры на территории, заселенные некельтским в этническом отношении населением (в качестве таковых могут выступать галльские нашествия в Италию в начале IV в. до н.э. или в Грецию и Македонию в начале III в. до н.э.). Эти события непосредственно отразились в письменных источниках, особенно тогда, когда они затронули зону интереса классического (античного) мира. Однако этот тип «экспансии» не следует путать с тремя типами, которые были описаны выше. Они часто сопровождались попытками расселения на части захваченной территории (воинами, отставшими или искавшими пропитание для того, чтобы создать линии снабжения в затяжных кампаниях или же использовать захваченную добычу). В то же самое время вооруженные вторжения не всегда являлись началом колонизации. Однако они могли иметь более глубокие последствия для захватчиков. В некоторых случаях они приводили к установлению видимых кельтских колоний на далеких территориях (как, например, поселение галатов в Малой Азии);
Между тем немецкий исследователь Вольфганг Ден выявил у кельтов четыре типа миграции:
a) удаление из популяции избытка населения, главным образом молодежи;
b) выселение группы с женщинами, детьми, скотом и другим добром на новые территории;
c) военные экспедиции;
d) этнические движения, вызванные экономическими причинами;
5. Приобретение объектов и усвоение модных образов латенского стиля людьми абсолютно различного этнического происхождения, равным образом как западнокельтские (галльские) племена приобретали греческий импорт и усваивали модные греческие образы. Латенские объекты известны и на территории русской лесостепи.
Таким образом, вполне очевидно, что простого присутствия «кельтских/латенских» объектов еще недостаточно для доказательства присутствия кельтов как непосредственных носителей латенской культуры в различных областях и уж тем более то, что они являлись доминирующей социальной или этнической группой, ответственной за создание конкретной социально-политической или экономической ситуации во всех областях, где были обнаружены латенские предметы.
Как предполагает П. Бэрфорд, носители латенской культуры могли выступать в качестве своего рода организующего фактора некоторых экономических систем и сетей дальней международной торговли. Факт того, что в Центральной Европе имелись районы, продуцирующие, очевидно, чеканку монет, оппиды и предметы роскоши на обмен, и которые считаются, как правило, «кельтскими», не всегда может означать, что население этих районов говорило на кельтском диалекте, приведшее, в конечном счете, к экономическому развитию. Такой аргумент превращается в «заколдованный круг», поскольку часто присутствие именно этих археологически узнаваемых явлений приводит, в первую очередь, к идентификации области как «кельтской».
В свою очередь современными исследователями были выделены три вида системы обмена:
1. Межобщинный (внутри самого племени, исходя из того, чем богаты; такой обмен, как правило, зачастую мог не иметь хозяйственной ценности, поскольку для создания или укрепления социальных связей;
2. С ближайшими иноэтничными соседями; в этом случае уже присутствует специализация и поставляются те предметы обмена, которых нет в других обществах;
3. Дальний обмен с населением, обитавшим на значительном (до 300-400 км) расстоянии.
Между тем обмен на дальние расстояния мог носить опосредованный характер, через представителей других дальних экспедиций, занимающих промежуточные отрезки пути, связанные лишь с определенными пунктами. Экспедиции не преодолевали все расстояние от исходного пункта до места назначения и в обратном направлении, а только отдельные участки маршрута дальнего пути. Экспедиции, которые длились по несколько месяцев, как правило, планировались заранее из нескольких десятков мужчин, обладавших высоким статусом. В роли руководителей таких экспедицией выступали лидеры отдельных поселков. Не выступает ли сказанное в качестве косвенного подтверждения гипотезы П. Бэрфорд о роли носителей латенской культуры как некого организующего фактора некоторых экономических систем и сетей дальней международной торговли? По всей видимости, такое не исключено. Как мне представляется, элитная прослойка не могла не осознавать всех коммерческих выгод и преимуществ от организации торговых путей или установления над ними контроля.
Совсем недавно в зарубежной литературе увидела свет совместная работа двух румынских исследователей А. Рустойю и С. Берекки, посвященная детальному анализу не только взаимоотношений ремесленников с представителями кельтской элиты, но и роли ремесленников как непосредственных воспроизводителей культурных явлений. К некоторым заслуживающим внимания аспектам этой работы я буду обращаться в процессе работы.
Не будет преувеличением сказать, что латенская культура и связанный с нею исторический период в жизни варварской и античной Европы в полной мере можно считать феноменом. В этом отношении верным представляется мнение М. Диллон и Н.К. Чедвик о том, что от Галатии в Малой Азии на северо-запад до Шотландии и на юг до Андалузии в III в. до н.э. можно было путешествовать, не покидая собственно кельтской территории. И это была не империя, она представляла собой единое культурное пространство.
В этой связи, как верно отметил П. Якобсталь, кельтское искусство, во всем своем многообразии и даже несмотря на распространение на столь обширной территории, является единой культурой. Также он добавляет:
«Нам говорят, что галлы были храбрыми, драчливыми, жестокими, суеверными и красноречивыми: их искусство также полно контрастов. Оно привлекает и отталкивает; оно далеко от примитивности и простоты; оно изящно по мысли и технике, разработано и умно, полно парадоксов, беспокойно, загадочно неоднозначно; рационально и иррационально; мрачно и темно – далеко от человечности и прозрачности греческого искусства. И все же это действительно стиль, первый большой вклад варваров в европейское искусство, первая большая глава в непрестанных контактах южной, северной и восточной сил в жизни Европы»207. Устремления кельтов и то культурное влияние, которое они оказывали на весь окружавший их племенной мир варварской Европы, сопоставимы по своей значимости и грандиозности с распространением французской культуры в XVIII – XIX вв., диктовавшей новые принципы и нормы в области моды, поведения на фоне активного проникновения французского языка в различные сферы общества, ставший в дальнейшем главным международным языком.
Ввиду сказанного, следует озадачиться следующей проблемой. Благодаря чему в интересующее время мог происходить процесс кельтизации того или иного региона Барбарикума, где непосредственное присутствие носителей латенской культуры прямо не засвидетельствовано? Он сводится к следующим важным аспектам:
1. В первую очередь, латенизация явилась прямым результатом деятельности варварских элит. Она могла выражаться в контроле важных торговых путей как первоочередного источника богатства и престижа, присутствие в среде элиты чужеродного или пришлого правителя – князя, благодаря которому мог происходить «культурный патронаж».
2. Деятельность ремесленников. Ремесленники являлись важной составляющей привилегированной прослойки варварского общества, т.к. благодаря их мастерству у элиты имелась возможность пользоваться престижными вещами (фибулами и т.д.) и тем самым позиционировать себя в
«нужном свете» перед остальными членами общества.
3. Наличие матримониальных связей. Наглядной иллюстрацией таких связей может служить уже упоминавшееся погребение в Викс (оно иллюстрирует характер кельто-скифских связей); если предположить, что такие связи имели место быть, то кельтская женщина играла роль транслятора латенской культуры на южнобалтийском «фронтире».
4. Мода как позиционирование своего привилегированного положения и отождествление себя с определенной социальной группой (элитой). Вероятно, представители южнобалтийской элиты не были в этом случае исключением.
5. Функционирование торговых путей. Уже упоминался неоднократно знаменитый Янтарный путь, а также предполагаемый польским исследователем Т. Бошнаком «морской северный путь».
Сближение обеих групп населения в странах, оккупированных кельтами, теперь шло очень быстро, и развитая латенская культура оказала огромное влияние на культуру исконного местного населения, которое в других отношениях до этого времени во многом сохранило свою самобытность. Графитная керамика, на которую был большой спрос, вывозилась и в отдаленные области. Для периода расцвета кельтских оппидумов особенно характерна расписная керамика; в Карпатской котловине в последнем веке ее производством занимались некоторые некельтские или лишь кельтизированные центры.
В период расцвета латенской культуры кельтские мастерские владели почти всеми производственными процессами и технологией и в этом отношении действительно завершили развитие цивилизации в Средней и Северной Европе. Они создали основу, из которой исходили все последующие столетия. Возрастающая концентрация кельтского заселения в Средней Европе прямо вызывала эти глубокие общественно-экономические изменения. Необходимо было собственной хозяйственной деятельностью возместить то, что прежде приносила военная добыча, искать новые ресурсы, новые возможности и опереться непосредственно на среднеевропейскую среду. Поэтому этот период расцвета оказал на соседние области столь сильное влияние, сказавшееся и в районах, расположенных далеко на севере (до самого Балтийского моря и южной Скандинавии), глубоко в Польше и в значительной части Украины. Предшествующая военная экспансия ныне сменилась экономическо-торговой экспансией, отдельные группы кельтских производителей даже основывали свои мастерские, по всей вероятности, и вне границ собственно кельтской сферы, например, в Польше, в области г. Кракова. Это переплетение кельтского и некельтского в середине последнего века зашло так далеко, что в некоторых европейских областях мы уже с трудом различаем, что является продуктом еще чисто кельтским, а что местным. Технику производства перенимала также некельтская среда и развивала ее в соответствии с потребностями и прочими условиями.
В начале III в. до н.э. кельты, продвигаясь через Судеты, достигают Польши и занимают наиболее плодородные земли в Средней Силезии. Во II в. до н.э. другая группа кельтов переходит Карпаты и занимает территории Верхней Силезии и Малопольши. Примечательно, но на одном из кельтских поселений I в. до н.э. – Вроцлав-Портынице (Wrocław-Portynice) – был обнаружен целый склад необработанного балтийского янтаря, весом около 3 тонн.
Латинское выражение litus Oceani в древности (собственно, в период Античности) служило синонимом края света, но именно это побережье
«северного Океана» притягивало римлян, как место залежей янтаря. Поиски
«северного золота» привели к формированию в период римского влияния системы контактов между Дунаем и Балтикой, называемых традиционно
«Янтарным путѐм». На «римских» древностях этого периода, регистрируемых в регионе Балтийского моря, видны отчѐтливые отпечатки традиции латенской культуры, из чего следует, что эти контакты находились под контролем кельтов, жителей приграничных провинций Imperium Romanum (так называемые перегрины (peregrini)). Обращает на себя внимание и распространение этих находок: они засвидетельствованы на Мазурском Поозѐрье, а также в среднем течении Преголи (Надровия), над Куршским заливом и в устье реки Неман.
Из Средиземноморского региона на южный берег Балтики вели два основных маршрута:
1. «Янтарный путь» – Средний Дунай – Моравские Ворота – верховья Одера
– бассейн Верхней Варты – Нижняя Висла – острова Балтийского моря.
2. Средний Дунай – Моравские Ворота – Одер – Померания – Мекленбург – Дания.
В современной польской археологической литературе, в частности Т. Бошнаком, была выдвинута гипотеза о существовании не только сухопутного пути, но также и морского, берущего свое начало в Западной Европе, проходящего через Северное море с выходом к Балтийскому морю. В данной статье высказывается предположение, согласно которому кельты могли появиться на южном побережье Балтийского моря не только благодаря сухопутному Янтарному пути, но и посредством морского пути. Среди них могли быть выходцы, как с Британских островов, так и с самой Галлии.
Польский исследователь В. Новаковский на основе некоторых археологических находок выделил в качестве предполагаемого ответвления Янтарного пути Мазурско-надровский путь, существовавший в эпоху римских императоров Августа и Тиберия. Примечательно, но уже в своей работе Х. Эггерс выявил восточное ответвление Янтарного пути, которое отделялось в районе Калиша (Kalisz), расположенного в Великопольском воеводстве в западной Польше, и вело в северо-восточном направлении к Самбии и Литве. М.М. Михельбертас также выделил указанное ответвление.
Для нашей темы восточное ответвление Янтарного пути особенно важно, поскольку оно проходит по территории западных балтов. Как отмечает автор, эти контакты (т.е. между южным побережьем Балтийского моря и землями Среднего Подунавья) находились под контролем кельтов, проживавших в пограничных провинциях Imperium Romanum. На каких же собственно археологических материалах и выводах строится его предположение?
Первой из таких находок является фибула из Крукланки (Kruklanki). У нее ножка была отогнута кверху и заканчивается круглым выпуклым щитком, в центре которого находилась заклѐпка, прикрепляющая ножку к дужке. Железная игла фибулы была прикреплена к оси, находящейся в отверстии под пластинкой, имитирующей пружину, отлитой вместе с дужкой. Особенности конструкции фибулы из Крукланки очень схожи с конструкцией кельтской фибулы типы Мюнзинген (Münsingen). Между тем рассматриваемая застежка представляет собой синтез кельтской стилистики с не характерной для кельтов шарнирной конструкцией. В качестве иллюстрации такого синтеза могут служить находки трех бронзовых фибул со щитками на дужках, с железными пружинками и рамчатыми ножками, найденные на известном кельтском оппидуме в Манхинг (Manching), расположенном в южной Германии. К тому же аналоги фибулы из Крукланки обнаружены на землях проживания в этническом отношении иллирийского, но сильно кельтизированного племени яподов. Там выявлены довольно многочисленные фибулы с имитацией пружин – «псевдо-спиралями» на окончании ножек. Здесь были найдены также фибулы со щитками на ножках. Эти два типа фибул встречаются в комплексах, датируемых локальной фазой V, т.е. на время от 110 г. до н.э. – 10/20 гг. н.э. К сожалению, пока нет возможности точно сказать, являлась ли фибула из Крукланки импортом из кельто-иллирийского мира или была всего лишь местной имитацией, но, не подлежит сомнению тот факт, что она служит подтверждением связей жителей Мазурского Поозерья с южнодунайскими землями.
Также важными представляются находки являются фибул типа Стрики (Striki). Две такие застежки были обнаружены на территории Восточной Пруссии, однако точная их локализация осталась неизвестной. Третья находка происходит из клада, происходящего с территории бывшего имения Шприндт (Sprindt), в границах города Инстербург (Insterburg; современный Черняховск, Калининградская область). На головках рассматриваемых фибул были пластинки с поперечным рифлением, имитирующие пружины. Они не были украшены щитками на окончаниях ножек, а на их головках и с двух сторон «псевдо-пружин» находились бугорки. Их датировка согласно конструкции фибул (наличие рамчатой ножки, что является особенностью позднелатенской схемы), как полагает В. Новаковский, относится к развитой фазе позднего предримского периода (фазы A2-A3, т.е. 100 г. до н.э. – 20 г. н.э.). По мнению исследователя, фибула из Крукланки представляет собой образ быстрой «миграции идеи», т.е. промежуточным этапом между кельто-иллирийскими (яподскими) образцами и северными производными (фибулы типа Стрики).
Еще одним видом находок в Прибалтике являются поздние кельтские фибулы. Среди них можно выделить следующие три вида: тип Альмгрен 239 (Kragenfibeln), тип Альмгрен 240 (Distelfibeln), фибул типа Нертомарус (Nertomarus).
Первый представлен фибулами классической формы Триер- Винхеринген (Trier-Wincheringen), длиной 10,6 см. Их датировку следует относить ко времени правления императоров Августа и Тиберия. Распространение находок фибул Kragenfibeln на землях, располагавшихся севернее среднего Подунавья, позволяет предполагать, что эти фибулы могли проникнуть на территорию пшеворской культуры через Чешскую Котловину, а следующий этап мог проходить через Мазовию на территорию Мазурского Поозѐрья. Между тем экземпляр рассматриваемой фибулы из окрестностей Венгожево (Варминьско-Мазурское воеводство, северная Польша), по мнению В. Новаковского, является импортом, происходящим с территории проживания галльского (кельтского) племени треверов.
Следующий вид представлен двумя фибулами, также происходящими из Венговежа, так называемым типом Альмгрен 240 – их дужка украшена декоративным щитком, напоминающим украшенные наложенными на дужку декоративными щитками, напоминающими цветок чертополоха (нем. Distel). Обе разной длины: длина первой составляет 10 см, длина второй – 5.3 см. Похожие предметы были найдены на маркоманских погребальных памятниках в Чешской Котловине, в комплексах, относящихся ко времени «державы Маробода». Следует отметить, что фибулы рассматриваемого типа принадлежат к одному и тому же варианту, появившемуся на землях Галлии во время правления императора Августа и бывшего в употреблении до третьей четверти I в. н.э.
К этому же времени относятся находки фибул типа Нертомарус. Одна из таких фибул, варианта Лангтон-Доун (Langton-Dawn), была обнаружена севернее Карпат на кельтско-пшеворском поселении тынецкой группы под Краковом. В собраниях Музея Вармии и Мазур в Ольштыне еще одна такая же фибула была зарегистрирована по месту своего нахождения как «Samsburg, Kr. Insterburg». По мнению В. Новаковского, локализация данного артефакта недалеко от современного Черняховска не вызывает сомнений. По всей видимости, фибулу из «Замсбурга» можно рассматривать как своего рода отражением пути, идущего через Чешскую Котловину, которая являлась центром «державы Маробода», на север, на территорию Мазурского Поозѐрья, a оттуда далее уже в Надровию.
Еще одним интересным видом находок являются фибулы типа Езерине (Jezerine) – с широкими ленточными дужками и с шариком на конце ножки. Представленные фибулы хорошо известны на широкой территории от Галлии, наддунайских земель по Балканы и являются проявлением живой кельтской традиции в провинциальной римской культуре во времена Августа. Кроме того фибулы типа Езерине были обнаружены также и в кельтском «анклаве» в Центральной Европе, каким была на рубеже эр т.н. пуховская культура, с двух сторон Татр, но в пшеворской культуре они не встречаются. Рассматриваемый тип фибул встречается на янтарном побережье между низовьями Вислы и Неманом. Два экземпляра были обнаружены также и на Мазурском Поозерье. Первый артефакт зафиксирован в погребении LVII на уже упоминавшемся могильнике Крукланки. Второй артефакт обнаружен на стоянке Гжыбово (Grzybowo). Фибулы типа Езерине были найдены в Новой Деревне Гусевского района Калининградской области и Шилуте (Ńilutė), в низовьях Немана на территории Литвы. К этому списку следует добавить еще две фибулы того же типа, обнаруженные на могильниках вельбарской культуры в низовьях Вислы, расположенных в Поморском воеводстве на севере Польши. Первая из находок происходила из Любешево (Lubieszewo), вторая – на могильнике Стары Тарг (Stary Targ).
Этот отрезок пути вел и дальше – на остров Готланд, расположенный напротив западнолитовского взморья. На нем были обнаружены фибулы, иллюстрирующие местные подражания фибулам типа Езерине. Можно отметить некоторые отличительные особенности этих фибул. Ножка экземпляра из Сигульд (Siguld), длинной 6 см, заканчивалась маленьким шариком, а в иглоприѐмнике было небольшое круглое отверстие. Также выглядела чуть более длинная (6,3 см) фибула из Лилля Роне (Lilla Rone). Оба готландских артефакта имели специфическую ленточную бронзовую дужку: посредине она расширялась и на этом расширении находилось большая, куполообразная выпуклость. В обоих случаях верхняя часть этого
«купола» была срезана, благодаря чему посреди дужки фибулы находилось большое круглое отверстие. Это отразилось также на прочности фибул: экземпляр из Сигульд повреждѐн в центральной части дужки, а фибула из Лиля Роне в этом же месте сломана. Совершенно оригинально выглядят головки обеих фибул: «нормальные» пружины отсутствуют, а вместо них в качестве пружинного элемента находится игла, которая плавно переходит в головку дужки. Пружину имитируют две спирально скрученные проволочные трубочки, насаженные на оси, расположенной поперѐк головки. Готландские варианты фибул типа Езерине, по всей видимости, отражают существование связей острова с регионами, где фибулы типа Езерине встречаются довольно часто – это устье Немана и мазурско-надровское ответвление Янтарного пути.
К вещам кельтской традиции можно прибавить и находки браслетов с поперечными гребешками, окончаниями с отростками. Данные браслеты встречаются Весново, Краснознаменский район Калининградской области, Ромоты (Romoty), на Мазурском Поозѐрье, а также Каружай, в Литве. Схожий браслет, хотя уже без декоративных отростков на окончаниях, был найден в Пренляукис (Prienlaukis), также в Литве. К этому списку следует добавить также два стилистически более поздних экземпляра со сплющенными гребешками: из коллекции пастора Писанского, собранной в окрестностях Венгожева, а также браслет из Пажарстис.
Этот вид некоторые исследователи соотносили с формами браслетов, характерных для латенской культуры и датировали их временем LT C (150/120 гг. до н.э.), т.е. их следовало бы отнести к культуре западнобалтских курганов. Однако более правдоподобной представляется гипотеза о происхождении рассматриваемых браслетов в качестве подражания позднекельтским браслетам из римской провинции Реция (Raetia), в верхнем течении Дуная. Последние фиксируются в том же хронологическом горизонте, что и фибулы типа Езерине. Об этом свидетельствует браслет из Ромоты, который был найден на грунтовом могильнике периода римского влияния, a стилистически поздний экземпляр из Пажарстис был зафиксирован в погребении 2 в кургане 54 вместе с глазчатой фибулой прусской серии Альмгрен 60-61, сильно профилированной фибулой Альмгрен 72, которые датируют этот объект фазой B2 (70-170 гг.) периода римского влияния. Таким образом, можно предположить, что наиболее ранние из описываемых выше браслетов могли попасть на Мазурское Поозѐрье (Ромоты), в Надровию (Весново), а также в устье Немана (Каружай, возможно и Пренляукис) вместе с той же волной кельтско-римских импортов, что и большинство рассматриваемых ранее фибул.
Таким образом, как полагает В. Наваковский, все проанализированные находки, вероятно, попали на южное побережье Балтийского моря в течение 40-50 лет, а именно в эпоху императора Августа и начала правления императора Тиберия. Время существования описанной «мазурско- надровской альтернативы» объясняет также и кельтский характер находок: кельтское население римских провинций не отличалось в цивилизационном аспекте от германцев из-за Рейна и Дуная, a, вероятнее всего, также от балтов из Мазурского Поозѐрья и Надровии. В этой связи логично заключить, что благодаря этому не существовали преграды во взаимопонимании с варварскими партнѐрами, даже при наличии языковых различий. C другой стороны, принадлежность к Imperium Romanum, открывало для этих людей значительные римские рынки сбыта, a тем самым – пропорционально большие прибыли. Кельтское население наддунайских провинций Империи становилось, таким образом, торговым посредником между центром средиземноморского мира и Barbaricum.
К этому списку следует добавить находки на южнобалтийском побережье ажурных бронзовых изделий в стиле opus interrasile, а также
«крыльчатых» (Flügelfibeln) и «глазчатых» фибул. Ажурные накладки из металла служили, как правило, важным элементом женской одежды у кельтов Норика и Паннонии, а в I в. н.э. они обрели популярность в качестве украшений на ножнах мечей, на поясах, портупеях, звеньях цепей-поводьев конской узды у солдат и офицеров римской армии, размещенной на Рейне и верхнем Дунае. Точно также верхний Дунай является родиной «крыльчатых» и «глазчатых» фибул.
Находки крыльчатых и сильно профилированных фибул засвидетельствованы и на территории Литвы.
Первые обычно бывают больших размер, поскольку их длина может достигать 15-18 см. Крыльчатые фибулы имеют длинное прямое туловище, которое отделено от головки щитком, прикрытый сверху двумя «крыльями» с отростками (отсюда, собственно, и название этого типа фибул). Сама головка фибул чаще всего бывает почти треугольной формы и частично прикрывает спираль. Некоторые фибулы данного типа орнаментированы рядами точек и углублений, а другие могут содержать ажурный орнамент.
Крыльчатые фибулы обнаружены в могильнике Саргенай (Каунасский район, центральная Литва), в курганах Байоришкяй (Поневежский район, северная Литва), Сандраусишкес (Кельмеский район, северо-западная Литва) и Адакавас (Скаудвильский район, западная Литва). Сюда же следует причислить еще две фибулы, происходящие из погребения № 98 Саргенайского могильника (Каунасский район, центральная Литва) и разрушенного погребения, где-то в окрестностях Пашакарняй (Кельмесский район, северо-западная Литва). Все эти шесть бронзовых крыльчатых фибул были, скорее всего, украшением мужчин, поскольку обнаружены в мужских захоронениях.
Этот тип фибул, широко распространенный в римских провинциях Паннонии и Норикума, датируются, как правило, I-II вв. н.э. По мнению М.М. Михельбертаса, крыльчатые фибулы попали в Литву из римских провинций благодаря функционированию Янтарного пути.
Также из римских провинций на территорию Литву попали и несколько экземпляров сильно профилированных фибул. Серебряная фибула рассматриваемого типа, украшенная рядами поперечных углублений и точек, была обнаружена в Куршяй (Кельмеский район, северо-западная Литва). Между тем близкие по форме фибулы распространены в римских наддунайских провинциях, а некоторые единичные экземпляры известны в Северной Европе. Упомянутая фибула датируется II в. н.э. и происходит, скорее всего, из наддунайских провинций. Еще одна небольшая, сильно профилированная фибула обнаружена в Адакавских курганах (Скаудвильский район, западная Литва). Очень схожий экземпляр, который датируется II в. н.э., был обнаружен и в Вилленберг (Бавария, юго-восточная Германия). Сильно профилированные фибулы, как и крыльчатые, были широко распространены в Паннонии в I-II вв. н.э. К этому периоду следует отнести и фибулу из Адакавских курганов, считая ее импортом из Паннонии. Сильно профилированные фибулы встречаются и на территории современной Калининградской области.
Из римских провинций в Литву попала и бронзовая фибула так называемого «позднелатенского» типа, обнаруженная в Шилуте (Шилутский район, западная Литва). Она могла попасть в I-II вв. н.э. из наддунайских провинций, где такие фибулы опять же широко распространены.
Вместе с тем ажурные накладки из металла и фибулы получают свое распространение в Прибалтике во второй половине I – первой половине II вв. как сугубо мужские атрибуты. Само появление варварских подражаний римской военной моде в таком удаленном от лимеса регионе связано с деятельностью римских торговцев на трассе «янтарного пути». Возможно, прав был М.Б. Щукин, предполагая, что ключевые пункты «янтарного пути» могли стать прибежищем в варварских землях для каких-то римских ремесленников, изготовлявших изделия в стиле «opus interrasile». Как известно, римские торговцы и ремесленники в I в. н.э. селились иногда за границами Imperium Romanum – в Дакии, свободной Британии и т. д.
В одной из недавних работ М. Рудницкий и С. Милек подробно рассмотрели вопрос о связях земель Центральной Польши с Дакией доримского времени. Основной находкой служат кольца со шнуровым орнаментом (type Şimleul Silvaniei). Несмотря на то, что они происходят из среды кельтов, их следует также относить и к среде даков. Рассматриваемые кольца или браслеты были обнаружены в разных частях Польши: одно – в Любичево (Lubiechowo), в Западном Поморье, пять – в регионе Нижней Вислы: Ласи (Lasy), Мальборк-Вельбарк (Malbork-Wielbark), три – в Мазовии: Неданово (Niedanowo), четыре были открыты в западной части Малой Польши: Нове Бжеско (Nowe Brzesko), Пельчиска (Pełczyska). Польские исследователи относят их ко времени раннего римского периода, но возможна и более ранняя датировка – LT D2 (60-30 гг. до н.э.) или ступень А3 раннеримского времени. Эти кольца, по мнению У. Маргоса и М. Стапорека, обязаны своим происхождением миру восточных кельтов или миру даков. М. Рудницкий и С. Милек приходят к следующему интересному выводу – кольца-браслеты со шнуровым орнаментом, обнаруженные в Лалендорфе (Lalendorf), в Мекленбурге – Передней Померании (Mecklenburg-Vorpommern), а также все указанные выше находки на территории Польши, должны рассматриваться как результат торгового обмена между Севером и Югом. При этом роль посредника в этом обмене играют жители западной части Малой Польши.
Сюда же следует добавить и различные бронзовые сосуды позднелатенского времени. Их можно разделить на две группы. К первой группе относятся котлы с железным краем (Bronzekessel mit eisernem Rand), цилиндрические или конические ведра (Bronzeeimer), миски (Ausgußbecken) и роскошные котлы (Prunkkessel). Их отличительной особенностью является наличие листовой бронзы и клепка из лент при изготовлении. Данные изделия следует считать кельтскими. Вторая группа включает в себя отлитые и частично обточенные, а также орнаментированные припаянными украшениями стамнозы, ситулы (сосуд в виде ведра), ведра, миски, кувшины и сковороды. Эти предметы следует относить к италийскому происхождению, изготовленные, по всей вероятности, в известных капуанских мастерских (Южная Италия).
Бронзовые котлы с железным краем, частично относящиеся к позднелатенскому времени, частично к раннеримскому, были распространены на всей территории так называемой «Свободной Грермании». Между тем в Польше они группируются в центральной Силезии и в районе нижней Вислы. Ситулы, которые были украшены оковками в виде дельфинов, встречаются в бассейне Эльбы, Одера и нижней Вислы. Они встречаются также в северо-западной Польше (Кошалинский повят, Западно- Поморское воеводство), западной Польше (Ставяны, Великопольское воеводство), северная Польша (Слупы, Куявско-Поморское воеводство). Ситулы с оковками в форме сердцевидных листьев встречаются преимущественно в бассейне средней и нижней Эльбы. Остальные типы обнаружены на территории западной Германии и в Дании, за исключением кувшинов, которые были найдены на территории Польши. По мнению Х. Эггерса, посредниками в торговле бронзовыми котлами выступали кельты, которых в I в. н.э. вытеснили римляне.
Сюда же следует включить и некоторые типы бронзовых ковшей. Ковши с ручками, украшенные головками лебедей, концентрируются преимущественно в Чехии и на обоих берегах нижнего Одера. Находки этих ковшей на берегах Одера появились здесь, скорее всего, в начале I в. н.э. посредством функционирования янтарного пути. Ковши с ручками с полукруглыми отверстиями имеют почти такую же территорию распространения, но очень редко встречаются в Чехии. Между тем большое количество таких ковшей встречаются в Дании, а также в бассейнах Эльбы, Одера и нижней Вислы. Один бронзовый ковш был обнаружен в Калининградской области, в могильнике Поваровка (бывш. Kirpehnen).
Заслуживает внимания предположение Х. Эггерса о том, что многочисленные римские импорты, которые попадали к пограничным племенам, распространялись в глубь территорий Барбарикума, благодаря посредничеству местных торговцев.
Как можно убедиться, все представленные находки, безусловно, относятся к характерным предметам латенской культуры. Однако могут ли они выступать в качестве своего рода индикаторов, свидетельствующих о присутствии на южном побережье Балтийского моря немногочисленной группы этнических кельтов? Постараюсь ответить на поставленный вопрос в рамках культурологической концепции А.Я. Флиера о так называемых «культурных индустриях». Встречается, правда, и другое наименование – «творческие индустрии». Между тем под самой культурной индустрией понимается производство непосредственно культурных или в существенной мере культурно отрегулированных феноменов, которое является более или менее массовым по своим объемам и высоко стандартизированным по большинству своих характеристик. Это системная совокупность культурных практик, осуществляемых не в новационно-поисковом (творческом) режиме, а по стандартам, реализующим наиболее актуальные в имеющихся условиях технологии социального производства и параметры создаваемых при этом продуктов. Именно наличие таких признаков, как массовость и стандартизированность, отличают культурные индустрии от другого режима культурного производства – культурного творчества, имеющего характерные черты новационности, штучности, авторской оригинальности и, как правило, отличающегося еще и высоким качеством. Это производство чаще всего бывает либо непосредственно художественным, либо каким-либо другим (утилитарным или символическим с иными функциями), но практически всегда обладающим существенной эстетической значимостью. Такая продукция с полным основанием может быть охарактеризована и названа именно как «эксклюзивная». Очевидно, что такое культурное творчество под определение «культурная индустрия» не попадает.
Итак, как можно видеть, Янтарный путь играл достаточно значимую роль для населения, проживающего на всем побережье Балтийского моря (не только в западной части, но и в восточной). В этом контексте уже не раз звучавший тезис о том, что между рассматриваемым регионом и Средним Подунавьем существовали довольно тесные связи, находит свое полное и одновременно логическое объяснение. Не будет преувеличением сказать, что этот же самый торговый путь способствовал формированию на южном побережье Балтийского моря феномена новой "дунайской" моды. В свете этого Янтарный путь представляется не только важной торговой магистралью, но также и своеобразной культурной «артерией» варварской
Европы. Ту же самую мысль выражает Т. Бошнак: «Кажется, что Янтарный путь был путем-проводником новых тенденций моды и идей». К примеру, могилы по обряду ингумации, столь редкие на польских земля во II в. до н.э., могли появиться здесь благодаря функционированию Янтарного пути Тем самым тезис о том, что этот путь являлся своеобразной культурной «артерией» варварской Европы находит свое обоснованное подтверждение. .2 Редкие находки предметов латенской культуры в некельтской Европе
В этом параграфе будут проанализированы предметы, которые были обнаружены в разных частях в единичных экземлярах или редко выходящие за пределы собственно кельтской территории.
В качестве таких «эксклюзивных» предметов (в рамках латенской культуры) могут выступать находки двух кельтских котлов в Дании (в первую очередь, котел из Гундеструпа и котел из Бро), рассматривающиеся обычно как предметы жертвоприношений.
Жертвенный котел был обнаружен в 1891 году в разобранном на пластины виде в торфяном болоте около посѐлка Гундеструп (Gundestrup) в округе Орс провинции Химмерланд (Himmerland) (полуостров на северной оконечности Ютландии) в Дании. Что касается происхождения котла из Гундеструпа, то по этому поводу имеется несколько версий о месте его изготовления. Одни исследователи указывают на его дунайские корни, однако предпочтительнее выглядит предположение Р. Хахмана о его галльском происхождении. По мнению Ф. Фалькенштайна, котел из Гундеструпа сделан, возможно, в Галлии мастерами, прибывшими с Нижнего Дуная при участии местных торевтов.
Совсем недавно этот сюжет был проанализирован Г.М. Казакевичем.
Исследователь приводит три версии происхождения котла: восточнокельтская или кельто-фракийская (ее придерживаются Ф. Каул и Т. Пауэлл), юго-восточная (главное ее содержание сводится к стилистической и технологической близости памятникам фракийской торевтики, в частности, серебрянным пластинам IV-III вв. до н.э. из Летницы (Болгария), а также серебряным фаларам восточноевропейского происхождения I в. до н. э.). К тому же существует и довольно распространенная балканская теория происхождения котла, в пользу которой говорит использование характерных для юго-восточной Европы технологических приемов обработки серебра, а также сильнейшее влияние на иконографию памятника со стороны фракийского и эллинистического искусства и религиозных представлений. Появление же котла в Ютландии объясняется Ф. Каулом походами кимвров, в ходе которых последние, по сообщению Страбона, оказались в землях скордисков, известных своим мастерством в изготовлении изделий из серебра. Однако, несмотря на все свои достоинства, эта версия имеет и ряд существенных недостатков. Во-первых, тип сосуда, к которому принадлежит котел, совершенно не известен в балкано-причерноморском ареале. Согласно Г. Олмстеду, котел из Гундеструпа был изготовлен на территории северо-западной Галлии. К тому же автор относит его к «цилиндрическим, со сферическим основанием котлам усиленным сверху ромбоидной железной полосой, к которой крепили бронзовые или серебряные боковины». Котлы данного типа известны исключительно на западе кельтского ареала, на территории современной Франции и Швейцарии. Во-вторых, против этой версии свидетельствуют и данные металлографии. Согласно ей, в процессе изготовления котла могла быть использована серебрянная руда из Северной Франции или Западной Германии, а также корнское олово. Что касается хронологии котла из Гундеструпа, то радиоуглеродная датировка следов воска, который использовался в процессе изготовления пластин котла из Гундеструпа показала, что наиболее вероятным временем его изготовления можно считать рубеж эр или, скорее, І в. н. э. Косвенно на эту дату указывают и изображения на пластинах котла круглых умбонов больших щитов, которые получили широкое распространение в Барбарикуме в позднелатенское и раннеримское время. Обозначенные нюансы ставят под сомнение данную версию происхождения котла.
По мнению Г.М. Казакевича, котел из Гундеструпа «со всей очевидностью можно назвать синкретическим памятником, в котором сочетаются традиции юго-востока и северо-запада европейского Барбарикума».
По всему в качестве региона, где, по всей видимости, и был изготовлен котел, следует рассматривать Химмерланд. Не будет лишним добавить, что при его исполнении создатели учитывали в полной мере вкусы и потребности именно тех людей, которые спрятали его в болотах Химмерланда. Именно поэтому, как полагает Г.М. Казакевич, место изготовления котла из Гундеструпа следует искать в области латенизированных культур на севере Европы, куда влияние балканских и восточноевропейских традиций, вместе с их носителями (квалифицированными ремесленниками), могло проникать по маршруту Ютландия – бассейн Вислы – Приднестровье – Подунавье (выделение мое
В.А.). На рубеже эр по данному коммуникационному коридору осуществлялся обмен престижными и ритуальными предметами, а также идеями и технологическими решениями, лежавшими в их основе. По всей видимости, именно благодаря этому пути и обязан своим появлением такой необычный предмет древнего искусства как котел из Гундеструпа.
Косвенными свидетельствами контактов между Северной Европой и причерноморским регионом в позднелатенское и раннеримское время являются также находки янтарных амулетов из погребения сарматской жрицы на Южном Буге, которое относят к I в. н. э. На существование пути, который вел с северного побережья Черного моря к устью Вислы, указывал и Х. Эггерс.
Таким образом, в виду сказанного, котел из Гундеструпа следует относить к эксклюзивной продукции, которая по причине уникальности и штучности явно не попадает под определение «культурная индустрия».
Еще одной редкой находкой служит комбинация замков металлических цепочек с зооморфными застежками из бронзы, иногда орнаментированные эмалью, является одной из характерных черт женского костюма латенской культуры фазы LT C (280-130 гг. до н.э.), хотя первые пояса этого типа появились уже на фазе LT B (начало IV в. до н.э.). Более поздние зооморфные застежки происходят из оппидов и святилищ, датирующиеся фазой LT D (150/130-50 гг. до н.э.). Ареал их распространения главным образом охватывает Венгрию, Моравию, Богемию, Баварию (южная и юго- восточная Германия), Гессен (нем. Hessen) в центральной Германии, Пфальц/Рейнланд-Пфальц (нем. Rheinland-Pfalz) в западной Германии и Швейцария.
Правда, иногда для этих застежек используется и другой термин –
«Vogelkopfgürtelhaken», но, по мнению Т. Бошнака, такое наименование кажется ошибочным, поскольку часто присутствует изображение маленьких закругленных ушек. По мнению Р. и В. Мегоу, речь должна идти об изображениях полорогих, но большинство исследователей видят в этих застежках скорее форму лошади. Э. Виаль доказывает, что между животными изображениями, которые украшают застежки, есть близкие изображения лошадей, но также полорогих и водоплавающих птиц.
В. Крута, изучивший эту категорию находок, выделил два основных типа зооморфных застежек. К первому и наиболее часто представленному типу относится голова с ушками, расположенной наверху загнутой вершины крючка, оконечность которого сплющена в форме морды, иногда с меткой, обозначающей пасть. Т. Бошнак отмечает некоторое сходство с головой лошади, выделяя кривую линию крючка, которая является чем-то вроде гривны сзади головы. Второй тип представлен ушками, расположенными на вершине крючка с удлиненной заостренной мордой и слегка загнутой. Среди экземпляров этого типа, В. Крута считает застежки, происходящие из Свободне Дворы 1 (Svobodné Dvory 1), в районе Градец-Кралове (Hradec Králové) в северо-восточной Чехии, Дремчице 2 (Dřemčice 2) в городе Литомержице (Litoměřice) в северо-восточной Чехии и Жабонози 1 (Žabonosy 1) в Богемии (Čechy), западной Чехии.
В Польше ни один полноценный пояс, снабженный зооморфной застежкой из медного сплава, найден не был. Тем не менее, известны четыре застежки, которые считаются крючком с окончанием, представленным в виде схематизированной головы животного. Два экземпляра происходят из мест латенской культуры, два других обнаружены в некрополях пшеворской культуры. Среди этих находок, три относятся к I типу (по В. Крута) и один – ко II типу. Последний происходит из наполнения ямы четырехугольной оградки, расположенной на поселении Нова Цереквиа (Nowa Cerekwia), входящее в состав Опольского воеводства юго-западной Польши рядом с Моравскими Воротами (чеш. и словацк. Moravská brána, польск. Brama
Morawska). На застежка из Нова Цереквиа имелся крючок в форме головы
с двумя ушками и заостренной оконечностью: звено частично сохранившееся, не округлое по своей форме, но слегка вытянутой, придавало ей форму капли. В центральной части предмета, внизу крючка, располагалось углубление, возможно, вначале заполненное эмалью. На уровне этого углубления находились два буквальных симметричных отростка, снабженные также, видимо, углублениями, одно из которых сохранилось.
К сожалению, не представляется возможным установить ни точную хронологию этой находки, ни ее происхождение на основе предполагаемой эмалированной орнаментации. Тем не менее, можно предположить, что описанная зооморфная застежка определяется в хронологическом промежутке между периодом LT C (280-130 гг. до н.э.) и LT D1 (150/130-70 гг. до н.э.). Между тем эмалированные зооморфные застежки образовывают три группы скопления на собственно кельтских территориях. Наиболее многочисленная группа прослеживается в Венгрии и на прилегающих территориях Словакии, тогда как другие были зафиксированы в Баварии, где некрополи Манхинг-Штайнбихель (Manching-Steinbichel) и Манхинг- Хундсрукен (Manching-Hundsrucken) остаются наиболее богатыми местами, подобные тем, что имеются в Шампани (Champagne) в северо-восточной Франции.
Вторая зооморфная застежка, происходящая с территории, занятой латенской культуры, была обнаружена на поселении Гужец (Górzec), в месте
в Нижней Силезии, в юго-западной Польше. Если в первом случае, существовали прямые контакты с Моравией, то в данном случае Нижняя Силезия сохраняла тесные связи с Богемией. Рассматриваемая застежка также принадлежит II типу классификации В. Крута. Вопреки большей части зооморфных застежек, у которых имелось звено округлой фиксации, находка из Гужеца была снабжена треугольным звеном. Рассматриваемый экземпляр датируется, по всей вероятности, временем LT C (280-130 гг. до н.э.) или LT
C1 (вторая половина III в. до н.э.). На такую датировку указывает находка фрагмента браслета группы 8b по классификации T. E. Хаверника.
Как можно заметить первые две находки зооморфных застежек происходят с территории, занятой пшеворской культурой. Здесь, в данном случае, по всей видимости, речь должна идти о кельтском импорте.
Два других экземпляра были обнаружены в Куявах на северной оконечности современной Польши. Одна застежка была обнаружена в погребении 5 в Щвиркувьец (Świerkówiec), тогда как вторая открыта вне контекста в некрополе Вшедзьень (Wszedzień), в нескольких километрах от Щвиркувьеца. Обе находки происходят с территории Куявско-Поморского воеводства из северной Польши. Как в случае с застежками, происходящими из кельтских поселений, так и экземпляры, открытые на территории, занятой пшеворской культурой, имели металлическое окончание, сделанное из недолговечного материала.
Застежка из Вшедзьеня довольно проста: зооморфный крючок поднят на профилированной части и снабженным звеном фиксации. Эта находка напоминает профилированную застежку из Омица (Omice) в районе Брно- пригорода (Okres Brno-venkov) в Моравии, в Чехии, а также из Манхинга (Manching) в Баварии, южной Германии. Однако в этих двух случаях сходство менее заметно. Принципиальное различие между застежкой из Вшедзьеня и упомянутыми экземплярами заключается в стилистике зооморфной головки: на находках из Омица и Манхинга имеется выступ в форме шариков вместо ушек, тогда как на застежки из Вшедзьеня ушки менее ярко выражены. У экземпляра из Омица нет установленной хронологии, в то время как для такой же застежки из Манхинга С. Сиверсом в качестве датировки устанавливается финальная фаза Ла Тена.
Экземпляр из Щвиркувьеца по своим конструктивным особенностям немного более сложный. Форма крючка заставляет предполагать наличие головы животного. Образ морды схематичен, но сходство с головой лошади подчеркнуто на изгибе части застежки. Центральная часть состоит из длинного звена, в то время как второе звено, намного меньше, служит для фиксации оконечности застежки. Описанная конструкция с длинным звеном в центральной части находит аналогии между экземплярами из Страдонице (Stradonice/oppidum Stradonice) в Богемии. Застежка со звеном в центральной части была обнаружена и в Манхинге. Другие экземпляры с таким же круглообразным сегментом посередине происходят из Блессенса (Blessens) (местечка «Ля Кюаназ» («La Cuannaz»)), кантона Фрибура/Фрайбурга (Fribourg) в западной Швейцарии, из Клермон-Феррана (Clérmont- Ferrand) (местечка «Ольна/Ля Гранд Борн I-III («Aulnat/La Grande Borne I-III»), департамента Пюи де Дом (Puy de Dôme) в центральной Франции.
Иные экземпляры, происходящие из Западной Кельтики, обнаруживают небольшие различия при соотношении находок, найденных на территории Польши. Одна из серий зооморфных застежек происходит из святилища Феске (Fesques), департамента Сен Маритим (dép. Seine Maritime) в северо-западной Франции. Речь, в данном случае, идет о застежках нескольких типов с крючком в форме головы лошади или быка. По мнению Э. Мантеля и С. Девилье, стилистика этих объектов однозначно указывает на типичные черты, присущие Центральной Европе. Между тем святилище из Вильнѐв-о-Шатло (Villeneuve-au-Châtelot), департамента Од (dép. Aude) в восточной Франции содержало 80 поясных застежек, часть из которых относилась к женскому костюму.
Точную датировку зооморфных застежек, происходящих из Польши, уточнить сложно, однако, кажется, что они вписываются в хронологические рамки латенских находок. Застежка из Вшедзьеня – раннее открытие вне контекста, найденная в некрополе, который содержал типичные для конца LT C2 (первая половина II в. до н.э. или 200/180-120 гг. до н.э.) и начала LT D1(150/130-70 гг. до н.э.) металлические ножны, доказывает относительную раннюю хронологию для пшеворской культуры.
Что касается зооморфной застежки из Щвиркувьеца, то, опираясь на находки двух небольших фибул типа H по Й. Костшевскому в могиле 5, польская исследовательница Е. Бокиниек предлагает датировать фазой A1 предримского времени, которая синхронизируется с периодом LT C2 (200/180-120 гг. до н.э.), но, возможное, еще и с LT C1b (225-190 гг. до н.э.). Между тем со своей стороны Т. Бошнак постарался внести некоторые уточнения в эту датировку, а именно, что фибулы типа H по Й. Костшевскому представлены в могилах фазы A2 предримского времени или LT D1, т.е. 120-60 гг. до н.э. Однако датировать более точно это погребение или же относить его только к фазе А1 или А2 на сегодняшний день не представляется возможным.
Примечательно, что для рассматриваемого захоронения отмечается характерное влияние ясторфской культуры. Согласно Е. Бокониек, присутствие элементов ясторфской культуры в инвентаре интересующей могилы свидетельствует о западном направлении притока зооморфных застежек на Куявы. В то же самое время находки, происходящие из кельтских поселений в Польше и представленные здесь, доказывают, что похожие объекты были известны также и в Силезии, т.е. в зоне, имевшей несколько связей с Куявами.
Зооморфные застежки особенно интересны в виду своей символики изображения лошадей в культуре Ла Тен и в пшеворской культуре. По мнению В. Крута, лошадь являлась животным, которое хорошо представлено в кельтской иконографии, даже популярнее, чем кабан и бык. Однако это замечание казалось корректным, если принимать во внимание все анималистические изображения, но, в данном случае, речь идет о фигурках с кружком неровности (les figurines en ronde bosse) в фазе LT C2 (200/180-120 гг. до н.э.), а потом в фазе LT D (150/130-50 гг. до н.э.). Отсюда следует, что мотив кабана более популярен, нежели мотив лошади. Более того лошадь была часто представлена на монетах, иногда в виде гибридного изображения с человеческой головой, но редко встречается на военном вооружени.
В. Крута упоминает, что, согласно Страбону, пояса в форме металлических цепочек должны были составлять характерный элемент костюма у жриц германских племен. Вот что сообщает Страбон на сей счет:
«у кимвров существует такой обычай: женщин, которые участвовали с ними в походе, сопровождали седовласые жрицы-прорицательницы, одетые в белые льняные одежды, прикрепленные [на плече] застежками, подпоясанные бронзовым поясом и босые. С обнаженными мечами эти жрицы бежали через лагерь навстречу пленникам, увенчивали их венками и затем подводили к медному жертвенному сосуду вместимостью около 20 амфор; здесь находился помост, на который восходила жрица и, наклонившись над котлом, перерезала горло каждому поднятому туда пленнику. По сливаемой в сосуд крови одни жрицы совершали гадания, а другие, разрезав трупы, рассматривали внутренности жертвы и по ним предсказывали своему племени победу. Во время сражений они били в
шкуры, натянутые на плетеные кузова повозок, производя этим страшный шум» (Strab., VII, II, 3). Между тем в кельтской мифологии Эпона играла важную роль, чьей принадлежностью и воплощением являлась кобыла.
Поскольку речь зашла о кельтской мифологии, то хотелось бы сказать пару слов о том, что значила лошадь у древних кельтов.
В первую очередь стоит упомянуть о том, что Галлия славилась производством лошадей, и почти постоянное присутствие благородного животного на находившихся в обращении монетах напоминало всему миру о престиже ее кавалерии и о богатстве ее пастбищ.
Кроме того, в древних мифологиях лошадь играла важную символическую роль. Образ лошади был включен в символику солнца. Солнце является не только подателем света и тепла, но также быстрым и неутомимым путешественником, который каждый день обходит мир вокруг. Быстрота движения солнца и его длительные и регулярные путешествия производили глубокое впечатление на людей архаических культур. Поскольку лошадь была самым быстрым из земных путешественников, солнце охотно рассматривали как небесного скакуна. Эти представления бытовали и в кельтской традиции. Так, в Галлии одним из имен божества, идентифицировавшегося с богом солнца Аполлоном, было имя Атепомарос, означающее нечто вроде «обладающий большой лошадью» или просто
«большая лошадь».
В то же самое время солнечная символика лошади не мешала ей играть одновременно и мифологическую роль демона, связанного с загробным миром. Скакун может вызывать представление о путешествии в потусторонний мир и фигурировать как проводник душ в царство мертвых. Также лошадь связана с волнами моря, которых она не боится, которые скачут, как она. Об амбивалентности символа лошади в кельтской традиции свидетельствует изображение лошади вместе с лодкой, которое встречается на некоторых галльских монетах, поскольку лодка может изображать солнечную ладью, а может – и корабль мертвых.
В религиозно-мифологических представлениях древних кельтов лошадь обычно соотносится с идеей верховной власти, возможно, одной из самых древних и фундаментальных идей древних религиозно- мифологических традиций.
По археологическим источникам лошадь не является значимым животным в пшеворской культуре. В этой культуре есть очень немного символических изображений. Равным образом не известны и погребения с лошадьми в предримский период. Не представлены они и среди погребального инвентаря. Напротив, в латенской культуре и в сообщениях Страбона не представляется возможным уточнить символические связи между женщинами и лошадьми в германском мире.
Итак, зооморфные застежки, происходящие из погребения 5 в Щвиркувьец (Świerkówiec) и в некрополе Вшедзьень (Wszedzień), представляют собой нетипичные находки для пшеворской культуры. Как полагает В. Крута, в кельтской культуре женские металлические пояса нужно рассматривать как маркеры особой функции умершего. Э. Дюма, повторяя то же самое мнение, подчеркивает, что бронзовые пояса с зооморфными застежками свидетельствуют об особом статусе их обладателей307. Как можно убедиться, только две зооморфные застежки, обнаруженные на Куявах в северной Польше, находились вне кельтской зоны. Это наблюдение подкрепляет мнение, высказанное В. Крутой о том, что женские металлические пояса надо рассматривать как маркеры особых функций умершего (религиозные или жреческие). В этом отношении выглядит вполне справедливым замечание М.Б. Щукина о том, что «в лице кельтов мы вообще имеем дело с неким теократическим обществом, объединяющим всю или почти всю Кельтику. Если допустить, что мастера, производившие украшения, оружие и керамику (а для мистически настроенного общества сакрализованность их изготовления вполне вероятна), тоже входили в друидическую организацию (хотя прямых указаний на этот счет и нет), то станет понятной и удивительная монолитность латенской культуры кельтов».
Такие предметы, следовательно, не могут выступать в качестве объектов коммерции или торговли, особенно на дальние расстояния и в интеркультурном масштабе.
Не свидетельствуют ли находки проанализированных зооморфных застежек в пользу присутствия непосредственных представителей из кельтской среды, в первую очередь, женщин-жриц? По всей видимости, такое обстоятельство не исключено. Не лишним будет напомнить, что в архаических обществах традиционный женский костюм в целом не являлся предметом торговли или дарения, если речь не шла о престижных
«княжеских» украшениях и одеждах. В то же самое время металлические детали традиционного костюма, по всей видимости, производились мастерами не «для рынка», а «на заказ», для конкретных людей и согласно определенной моде (в нашем случае, это будет кельтская или латенская мода). Однако за пределы определенной цивилизации элементы женского костюма, как правило, попадали вместе с их носительницами вследствие межэтнических браков или каких-то экстраординарных событий, нарушавших ход жизни древних коллективов (захват воинской добычи, кража, угон пленниц, депортация отдельных групп населения и т.п.). Такого рода контакты могли связывать даже общины, территориально удаленные друг от друга.
В качестве предметов, редко выходящих за пределы собственной кельтской территории, следует отнести находки монет, обнаруженные в Куявии (входит в состав Куявско-Поморского воеводства, расположенного на севере Польши).
Стоит отметить, что необычайный рост кельтского могущества в период наибольшего экономического расцвета и развития торговли вызвал необходимость чеканки собственной монеты, первой "варварской" монеты в Галлии и в Средней Европе. Еще в IV веке кельтские военные отряды во время своих набегов на Грецию и Италию могли убедиться в том, как удобны деньги, а кельтские наемники на иностранной службе получали свое вознаграждение в монете. Пока кельты с успехом совершали военные походы, в собственной монете не было необходимости. Но постепенно, начиная с III века, когда их экономической базой становится их собственное производство, выпускавшее продукции больше, чем было необходимо для удовлетворения местных потребностей, собственная кельтская монета сделалась предпосылкой дальнейшего развития.
В кельтском мире существовали две монетных системы: серебряные монеты и монеты, чеканенные из золота; значительно реже монеты чеканились из иного металла, из меди – бронзы или потина (бронзового сплава со значительным содержанием олова).
Самые старые кельтские монеты появляются во II веке, главным образом с его середины, и являются подражанием македонско-греческим образцам. Таким образцом служил статер Александра III Македонского с головой Афины Паллады с высоким коринфским шлемом на аверсе (лицевой стороне) и крылатой богиней победы Нике с лавровым венком в правой руке на реверсе (оборотной стороне). Такие золотые монеты первоначально имели греческую надпись (легенду), весили около 8,4 г и их диаметр достигал 18 – 20 мм (целые статеры). В последующее время чеканка этого типа становится грубее, отходя от первоначального образца.
Кельтские монеты, обнаруженные на севере Польши, были выполнены в различных культурных традициях. Наиболее интересными выступают следующие традиции, отразившиеся в их чеканке:
1. Бойская (юго-западная Словакия) – к примеру, бойские статеры типа Нике (Nike);
2. Кельто-дакская (особенно примечательна небольшая территория в долине реки Муреш, Румыния)
3. Галло-бельгийская (ныне юго-восточная Бельгия, Люксембург и окрестности Трира в Западной Германии) – стартеры типа Маслув (Masłow);
4. Гельветская (часть Швейцарии – восточный берег озера Невшатель) – стартеры типа Фрайбург (Freiburg).
Кто же имел право в кельтском мире чеканить монету? По мнению многих исследователей, монеты выпускали главным образом крупные представители знати, князья и вожди (легенды некоторых монет подкрепляют это мнение), определенные типы монет считают племенными или предполагают, что право чеканки их принадлежало оппидумам, которые также часто считаются местопребыванием князей.
Как отмечают М. Рудницкий и С. Милек, правом на чеканку монет обладала, по всей видимости, аристократия.
Итак, на территории некельтской Европы отмечается наличие уникальных предметов, относящихся непосредственно к кельтской культуре. Каким образом эти предметы попали в эти области можно только предполагать. К примеру, котел из Гундеструпа связывается обычно с походами кимвров (113-101 годы до н.э.). Однако не исключено и непосредственное проникновение в эти области носителей латенской культуры, причем не обязательно именно в лице кельтов. Но об этом будет сказано дальше. 2.3 Носители латенской культуры на южном побережье Балтийского моря
Чем же был обусловлен такой живой интерес кельтов к южному побережью Балтийского моря? На этот вопрос постарался ответить в своей последней статье уже неоднократно упоминавшийся Т. Бошнак. Во- первых, он предполагает, что для доримского (в западной литературе -«предримского») периода носители латенской культуры организовали обменный путь, связывающий побережье Балтийского моря с Caput Adriae. Й. Веловейский в ходе анализа явлений, связанных с функционированием Янтарного пути, неоднократно подчеркивал роль и стремление кельтов в сфере организации своеобразного «Куявского пути».
Заслуживает внимания один интересный сюжет, связанный с янтарным производством на территории Польши. В исторической области Куявии (Kujawy) в северной части польских земель были обнаружены следы существования ремесленных мастерских, занимавшихся обработкой и изготовлением изделий из янтаря (к примеру, бисер). Янтарные мастерские в этой области располагались в Яцево (Jacewo) и Лойево (Łojewo). Они являлись частью более обширного поселения, расположенного у Разрушенного Замка (Krusza Zamkowa) в Куявско-Поморском воеводстве
(ему принадлежала центральная роль в Куявии). Их активная фаза деятельности относится к раннему периоду римского влияния.
Между тем исследования пшеворской культуры в Куявии показало, что она формировалась под сильным культурным влиянием со стороны кельтов, Римской империи и круга карпатской культуры. Вблизи поселения у Разрушенного Замка было обнаружено биритуальное захоронение мужчины и женщины, содержащее характерные для латенской культуры предметы (ножи, браслеты).
Как полагает А. Кофта-Броньевская, янтарные продукты специалистов- ремесленников могли быть востребованы в основном кланами (family) или племенными старейшинами, а также, вполне возможно, создавали предметы для обмена в межплеменной торговле.
В этот период, благодаря влиянию кельтов, которые были не только главными организаторами янтарной торговли в Европе, но также инициировали изготовление предметов из этого привлекательного
«северного золота» в сочетании с редкими материалами. Период особой интенсивности этой торговли приходится на первое столетие до н.э., т.е. на время частых контактов польских земель с Римской империей. В это же самое время племенные социумы Куявии выступали не только как транспортировщики самбийского янтаря через польскую часть янтарного пути, но и развивали также и их собственную обработку этого редкого материала. Примечательно, но, как отмечает польская исследовательница А. Журавская, проанализировавшая янтарные находки в культуре западнобалтских курганов, в период римского влияния наибольшую выгоду от функционирования янтарного пути получили не только группы аселения, непосредственно не участвующие в сборе и эксплуатации янтарных залежей, но также и многие посредники.
Вполне возможно, что обработка янтаря была связана с распространением в Куявии обычая носить янтарные ожерелья, возникшему благодаря италийскому влиянию.
В этой связи очень верным представляется мнение К.К. Марченко, правда, на примере взаимоотношений греков и варваров в Северном Причерноморье в скифскую эпоху, о том, что «сила культурной радиации в древних обществах, как правило, обратно пропорциональна расстоянию от своего основного источника». Итак, по всей видимости, основной источник распространения характерных кельтских/латенских культурных традиций находился на территории, занятой пшеворской культурой, ставшей своего рода «метрополией» для территорий, расположенных дальше на север. Также кельтов интересовали, как уже неоднократно указывалось, янтарь (который являлся не только драгоценным минералом, но и обладал как магическими, так и целебными свойствами), соляные залежи (собственно, соль), рабы, а также меха и кожа. Некоторые исследователи предполагают, что жители Янтарного берега торговали не только кожей, мехами, но и невольниками (рабами).
Я не буду здесь специально останавливаться на детальном описании сказанного. Этому сюжету следует посвятить отдельную статью. Вероятно, в качестве равноценных предметов обмена кельты могли предложить племенам, населявшим к тому моменту южное побережье Балтийского моря, свои модные и престижные изделия (фибулы, мечи и т.д.). Последние, очевидно, должны были соприкасаться или иметь определенные контакты (морские или сухопутные) с носителями латенской культуры (в качестве таковых могли выступать не только кельты, но и сильно кельтизированные или кельтоидные группы населения, а также население «между кельтами и германцами»). Можно предположить, что находки кельтских монет являются именно отражением торговых отношений местного населения с носителями латенской культуры.
По поводу пребывания кельтов на польских землях некоторые свои соображения выразила и польская исследовательница Я. Розен- Пшеворская.
Обычно считается, что кельтские предметы, обнаруженные на польских территориях, обусловлены торговыми отношениями или заимствованиями.
Значительное увеличение кельтских древностей, происходящих не только с территории Силезии и Малой Польши, но и на территории средней Польши, а также в Куявии, по всей видимости, свидетельствуют о мощной экспансии кельтской культуры во II в. до н.э. на территории, замыкающиеся в левом бассейне реки Вислы.
Я. Розен-Пшеворская вовсе не исключает того факта, что раннелатенские древности, главным образом украшения, найденные в пределах Малой Польши и Куявии, не говоря уже о Силезии, являются следами товарообмена, связанного, скорее всего, с торговлей куявской солью, балтийским янтарем, зерном, пушниной, медом, полотном и т.п.
Роскошные украшения, оружие, дорогую посуду из бронзы и изготовленные на гончарном круге сосуды можно признать лишь импортными товарами, предназначавшимися на покрытие спроса со стороны более зажиточной группы, возникшей в среде местного населения. Наряду с этими предметами роскоши выступает также обильное количество предметов широкого потребления, таких как орудия и инструменты из железа, обыкновенное неорнаментированное оружие, застежки, являющиеся по своему характеру предметами обихода, а не украшениями, – которые часто встречаются в погребениях местного населения и к тому же не только в Малой Польше, но также и в Великопольше и Куявии. Это является свидетельством оживления и укрепления связей, но не только торговых, между кельтами и местным полиэтничным населением. В пользу этого предположения мог бы говорить факт выступания могил с исключительно кельтским инвентарем. Нельзя исключать того обстоятельства, что вслед за купцами на эти земли могли в среднелатенский период проникать также и кельтские ремесленники (литейщики, кузнецы, гончары), известные как производители изделий высшего качества, которые здесь оседали, смешиваясь с коренным населением.
Заключая по более поздним исследованиям, самые интересные находки относятся к позднелатенскому периоду. Наряду с многочисленными железными изделиями, орудиями труда, оружием и украшениями на многих стоянках выступает изготовленная на гончарном круге графитная и расписная кельтская керамика, также как и подражания ей, лепленные вручную.
Землянки и гончарные печи с содержащейся в них кельтской керамикой, следы каменных защитных валов являются элементами, которые можно связывать с поселенческим движением. Нельзя отрицать и того, что кельты могли использовать защитные сооружения, построенные местным населением.
По мнению М. Андравояц и М. Андравояц, «катализатором» оседания кельтов на территории современной Польши были, прежде всего, сражения последних с Буребистой (царь Дакии в 82 г. до н. э. – 44 г. до н. э.) и Юлием Цезарем. Не последнюю роль в этом процессе сыграла и Галльская война (58- 50 гг. до н.э.). Одним из организаторов лугийского союза на его северных и
западных краях (Куявы, Нижняя Силезия) среди прочих, имевший большой политический и военный опыт, известный по письменным источникам, был, по всей видимости, представитель галло-бельгийской знати – Амбиорикс (Ambiorix) – соправитель племени эбуронов, прославившийся своим сопротивлением Юлию Цезарю, римский полководец сам увековечил имя варвара в своих «Записках о Галльской войне».
В своей работе, правда, посвященной женскому костюму Северного Кавказа в эпоху переселения народов, А.В. Мастыкова как нельзя лучше отобразила смысл моды в варварских обществах. Он сводится к следующему. Как правило, мода интернационального характера была изначально аристократической, т.е. отражала культуру наиболее мобильной, полиэтничной и подверженной внешним влияниям социальной группы (собственно, элиты). В таком стратуме мода играла престижную роль маркера правящей группы, она способствовала подчеркиванию особого положения ее носителей, их политическую и культурную ориентацию, их связи с другими престижными кланами и правящими фамилиями. Аристократическая или «княжеская» мода рано или поздно начинает копироваться другими слоями населения (так называемая «демократизация» модных тенденций в определенный период времени). На этой стадии распространения моды инородное происхождение тех или иных элементов в костюме очень часто уже не осознается.
Итак, престижная «княжеская» мода играла важную роль. Ее суть сводилась к позиционированию местной элитой своего престижа (это могло выражаться в ношении соответствующей военной экипировки, использовании фибул и т.д.), а также привилегированного положения. Приведу один из таких примеров. В ходе продолжительных Митридатовых войн I в. до н.э. сарматские племена, соприкасавшиеся непосредственно или косвенно с кельтами во II в. до н.э. в Северном Причерноморье (пусть и на короткое время), позаимствовали у последних характерные шлемы типа Ново Место (возможно, в виде трофеев или статусных даров). Можно предположить, что для сарматов рассматриваемые шлемы выступали в качестве престижного и модного элемента военной экипировки337. Именно поэтому и в нашем случае, латенские «ноу-хау» как нельзя лучше отвечали потребностям предполагаемой южнобалтийской элиты.
Проанализированный археологический материал позволяет сделать определенные выводы по проблеме сильного латенского фона на юном побережье Балтийского моря. Во-первых, одну из ведущих ролей в процессе передачи латенских традиций играл, по всей видимости, Янтарный путь, благодаря которому происходил двухсторонний обмен. Во-вторых, кельтское влияние могло протекать и благодаря гипотетическому морскому пути. В- третьих, возможно, присутствие самих носителей латенской культуры. Эти три основных фактора могли обусловливать наличие сильного кельтского культурного влияния на южном побережье Балтийского моря.
В свете всего вышесказанного наиболее правильным представляется мнение С.П. Пачковой, согласно которому «для того, чтобы воспринимать какие-то элементы чужой культуры, совсем не обязательно жить бок о бок в течение столетий. Ведь каждое поколение воспринимает культуру сегодняшнего, а не вчерашнего дня». Представленный и проанализированный археологический материал в этой главе полностью подтверждает высказанную мысль.
Заключение
Проанализировав имевшийся на сегодняшний день многочисленный археологический материал южного побережья Балтийского моря, проблема резкого перехода от культуры западнобалтских курганов к самбийско- натангийской культуре предстает в следующем виде.
1. самбийско-натангийская культура не связана генетическими связями с культурой западнобалтских курганов, т.е. это социальное и культурное новообразование к моменту своего возникновения (фазы B1-B2) не сохраняло в себе черты предыдущего местного населения (Л. Окулич, К.Н. Скворцов, О.А. Хомякова);
2. самбийско-натангийская культура представляет собой новое социально-культурное образование, сохраняющее однако и некоторые черты предыдущей культуры западнобалтских курганов (В.И. Кулаков, В. Новаковский, Е.А. Тюрин, М.Б. Щукин).
В целом, нет никаких оснований отрицать того факта, что самбийско- натангийская культура в социальном и культурном отношении представляет собой совершенно новое образование. Археологический материал убедительно свидетельствует в пользу этого утверждения. Можно предположить, что присущая с самого начала этой культуре гетерогенность, была связана, прежде всего, с гетерогенностью ее социально привилегированной части населения. Привилегированная верхушка рассматриваемого социума, так сказать в этническом отношении, включала в себя, по всей видимости, не только представителей германского мира, но и выходцев из обширного кельтского мира (кельты, кельтизированные или «кельтоидные» группы населения, племена «между кельтами и германцами»).
Однако не стоит думать, что с появлением на территории Самбийского полуострова новых групп населения (основной интерес которых к этому региону был связан с залежами янтаря) прежнее местное население полностью перестало здесь существовать. Напротив, можно предполагать, что часть носителей культуры западнобалтских курганов продолжала существовать на территории Самбии, поскольку она являлась одной из локальных групп обширной культуры западнобалтских курганов.
Именно поэтому в качестве рабочей гипотезы или основы для предварительного объяснения резкого перехода от одной культуры к другой, представляется заманчивой и перспективной концепция о характере взаимоотношений «центра» и «периферии».
В этом отношении весьма показательным проявлением выдвинутой концепции выступает период завоевания Галлии Римом после серии войн, известных как «Галльская война» (58-50 гг. до н.э.). После присоединения Галлии в качестве очередной провинции в состав обширной римской Республики, здесь начался активный процесс романизации, затронувший, прежде всего, местную кельтскую элиту. В то же самое время большинство населения по-прежнему жило в деревнях, было более прочно привязано к земле. Процесс романизации протекал в сельской местности значительно медленнее. Именно по этой причине сельскому населению удалось сохранить язык, старый быт, старые права и обычаи, а порой с помощью мятежов пыталось пресечь процесс колонизации и романизации. Кроме того широким кругам с его собственной продукцией позволяло сохранять также в неприкосновенности свои старые технические знания и производственные методы, лишь приспосабливая их к изменявшимся требованиям, так что галльские мастерские продолжали работать и в римскую эпоху и в дальнейшем даже стали основой всего провинциально-римского производства. То же самое имело место быть во II-III вв., когда в галльско-римской среде наступает «ренессанс» кельтской культуры, носителем которого выступало, главным образом, местное население. Как известно по многочисленными историческим примерам, местное население, в отличие от элиты, было довольно консервативным, благодаря чему «эталонные» элементы культуры конкретного социума могли сохраняться довольно длительное время в их среде.
Относительно носителей самбийско-натангийской культуры, часто именуемых как «эстии», то на самом раннем этапе не стоит видеть в них балтов. Совершенно прав польский исследователь В. Новаковский, говоря о том, что эстии представляют собой многоплеменной союз, который мог включать в себя различные в этническом отношении племена. В данном случае уже приводившееся мнение О.А. Хомяковой о том, что «концепция линейного «этногенеза балто-славянских племен» исчерпала себя, представляется вполне оправданным.
Что касается присутствия на южном побережье Балтийского моря так называемого «латенского фона», т.е. проявления сильного культурного воздействия со стороны латенской культуры в лице ее носителей, то на этот счет имеются следующие соображения.
Процесс кельтизации (латенизации) того или иного региона Барбарикума сводится к следующим важным аспектам или, если так можно выразиться, условным моделям. Как уже говорилось, возникновение различных культурных явлений или традиций (в нашем случае, кельтских/латенских) на самом раннем этапе не могло происходить без непосредственного участия самих носителей этих традиций, т.е. должна была иметь место непосредственная миграция кельтов (в лице представителей знати, женщин, ремесленников и купцов, но, возможно, и более широких групп древнего населения) с последующей фазой их интеграции в структуру и состав любого местного населения (дакиийского, германского и т.д.). На данном этапе, как мне представляется, могло происходить собственно расширение латенской культуры и присущих только ей культурных традиций за пределы своего первоначально занимаемого (исконного) ареала.
По всему в Центральной и Восточной Европе латенизация могла являться одним из результатов деятельности варварских социальных элит. Именно поэтому возможно предполагать присутствие немногочисленной, но довольно мобильной и привилегированной группы кельтов, такой как военная аристократия. Деятельность такой элитной в социальном отношении группы могла сводиться к контролю важных торговых путей как первоочередного источника богатства и престижа, присутствии в среде элиты чужеродного или пришлого правителя – князя, благодаря которому мог происходить «культурный патронаж», наличии династических матримониальных связей. Если предположить, что такие связи имели место, то кельтская женщина играла роль транслятора латенской культуры.
Немалую роль в этой среде играл феномен моды, как средства позиционирования своего привилегированного положения и отождествления себя с определенной социальной группой (элитой). Нельзя исключать и того, что «разносчиками» латенской моды были целые племена, имеющие отношение как к кельтам, так и к германцам, а точнее к народам «между кельтами и германцами», такие как кимвры и тевтоны.
В дальнейшем, в результате длительного сосуществования пришлых (кельтских и культурно им родственных) и местных групп населения, по всей видимости, происходил взаимный процесс как ассимиляции (к примеру, в результате смешанных браков, метисации), так и аккультурации (т.е. усвоением чужого языка, традиций, обычаев и т.д.). Можно предположить, что именно смешанные или аккультурованные группы населения выступали потомками и носителями латенских традиций в позднелатенское время.
Таким образом, процесс латенизации и «кельтская вуаль», в целом, представляют собой схожие (если не однотипные) явления, общим для которых являлось не только наличие в среде различного местного населения носителей латенских традиций, но могло выражаться и в тесном соприкосновении с ними (в течение короткого или длительного промежутка времени). Некоторое различие, по всей видимости, заключалось в том, что в роли этих самых носителей в первом случае могли выступать непосредственно сами кельты, во втором – кельтизированные или «кельтоидные» группы.
Однако не стоит упускать из виду и тот факт, что в рассматриваемое время еще продолжали существовать и группы «настоящих» кельтов как непосредственных носителей латенских традиций, поскольку для I в. до н.э. – I в. н.э. еще уместно говорить об их некотором доминировании на различных территориях современной Европы.
Также важную роль играла и деятельность ремесленников, которые являлись важной составляющей привилегированной прослойки варварского общества, т.к. благодаря их мастерству у элиты имелась возможность пользоваться престижными вещами и тем самым позиционировать себя в «нужном свете» перед остальными членами общества. Стоит упомянуть и такие факторы как возможность наличия общих культов и культовых центров, а также и межплеменных центров (в них могли осуществляться различные торговые операции или операции по обмену) и к которым тяготели разные по своему происхождению племена, совместное участие разноплеменных варваров в войнах, и, как следствие, формирование общей надплеменной воинской культуры. Латенизация могла быть довольно быстрым процессом.
Не последнюю роль в процессе передачи кельтских культурных традиций играл знаменитый в эпоху Античности торговый путь – Янатарный путь.
Что же касается населения юго-восточной Прибалтики в рассматриваемый хронологический период (условно, I в. до н.э. – I в. н.э.), то оно представляется довольно полиэтничным. Здесь могли проживать не только выходцы из германского мира, но и различные носители латенской культуры.
В виду всего сказанного выдвинутое мной предположение остается пока что на уровне гипотезы, требующее своего подтверждения или опровержения на более обширном археологическом материале. Однако это уже задача последующей работы. Список использованных источников и литературы
Источники:
1. Житие святого Северина / Пер. с латинского яз. А.И.Донченко. СПб.: Алетейя, 1998. 267 с.
2. Корнелий Тацит. О происхождении германцев и местоположении Германии // Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. I. СПб.: Издательство «Наука», 1993.
3. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах. Т. II. М.: Наука, 1994. 674 с.
4. Страбон. География в 17 книгах. М.: Издательство «Наука», 1964. 944 с.
Литература:
1. Анисимов В.В. Западные кельты, южная Прибалтика и морские коммуникации на рубеже эр: состояние исследований // Вестник ВГУ. Серия: История. Политология. Социология. 2016. № 1. С. 28-32.
2. Анисимов В.В. Кельты Центральной Европы, Янтарный путь и южная Прибалтика на рубеже эр: состояние исследований // Научные ведомости БелГУ. История. Политология. 2016. Вып. 40. № 22(243). С. 26-34.
3. Анисимов В.В. О способах распространения моды в варварских обществах: социальные элиты, ремесленники и мобильность (на примере кельтов эпохи латена) // Stratum plus. 2017. № 4 (в печати).
4. Большая российская энциклопедия. Том 1. М., 2005. 766 с.
5. Большая российская энциклопедия. Том 14. М., 2009. 751 с.
6. Браун Ф. Разыскания в области гото-славянских отношений. Готы и их соседи до V века. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии Наук, 1899. 392 с.
7. Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М.: Наука, 1973.
8. Брюно Ж.-Л. Галлы. М.: Вече, 2011. 400 с.
9. Брюсов А.Я. Археологические культуры и этнические общности // СА. 1956. № XXVI. С. 5-28.
10.Брюсов А.Я. К вопросу о теории диффузии // СА. 1957. № 1. С. 7-13. 11.Брюсов А.Я. О характере и влиянии на общественный строй обмена и
торговли в доклассовом обществе // СА. 1957. № XXVII. С. 14-29.
12 Буданова В.П. Варвары и варварство в антропологии цивилизаций // Цивилизация и варварство: трансформация понятий и региональный опыт / Отв. ред. В.П. Буданова, О.В. Воробьева. М.: ИВИ РАН, 2012. С. 10-47.
13 Вознюк Е.Б. Диалог как фактор развития культуры // Известия АГУ. Серия: философия, социология и культурология. 2011. Вып. № 2-2.
14 Востриков А.В. Взаимодействие русской и французской культур в российской городской среде: 1701-1796 гг.: Автореф. дисс. канд. ист. наук. Тольятти, 2009. 23 с.
15 Генинг В.Ф. Проблема соотношения археологической культуры и этноса // Вопросы этнографии Удмуртии. Ижевск, 1976. С. 3-39.
16 Генинг В.Ф. Этнический процесс в первобытности. Свердловск, 1970.
126 с.
17 .Глебов В.П., Дедюлькин А.В., Гордин И.А. Шлемы восточнокельтского типа в погребальных и ритуальных комплексах на территории Сарматии // Сарматы и внешний мир: Материалы VIII Всероссийской (с международным участием) научной конференции «Проблемы сарматской археологии и истории», Уфа, ИИЯЛ УНЦ РАН, 12-15 мая 2014 г. / Отв. ред. Л.Т. Яблонский, Н.С. Савельев (УАВ. Вып. 14). Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, Центр «Наследие», 2014. С. 77-83.
18 Гусаков М.Г. История римского центуриона, побывавшего на Балтике (к вопросу о степени доверия к письменным источникам) // КСИА. 2006. № 220. С. 194-205.
19 Диллон М., Чедвик Н.К. История кельтских королевств. М.: Вече; СПб.: Евразия, 2006. 512 с.
20 Донцов А.И., Стефаненко Т.Г., Уталиева Ж.Т. Язык как фактор этнической идентичности // Вопросы психологии. 1997. № 4. С. 75-86.
21 Еременко В.Е. «Кельтская вуаль» и зарубинецкая культура. СПб., 1997.
232 с.
22 .Еременко В.Е., Щукин М.Б. К проблеме кимвров, тевтонов и кельтоскифов: три загадки // АСГЭ. 1999. № 34. С. 134-160.
23 .Иванова С.В. Исторические реконструкции и археологические реалии (ямная культурно-историческая область) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2004. Вип. XVIII. С. 330-356.
24 .Иванова С.В. Природные ресурсы и экономика древних обществ // Stratum plus. 2010. № 2. С. 49-97.
25 .Казакевич Г.М. Культурные контакты в балтийско-причерноморском регионе и проблема Гундеструпского котла // Миусские античные посиделки – V: Кельты и античный мир: от Ирландии до Малой Азии. М., 2013.
26 .Казакевич Г.М. Східні кельти: культури, ідентичності, історіографічні конструкції. Київ – Вінниця, 2015.
27 .Калинина И.В. Цикличность археологических культур и технологические традиции // Цикличность: динамика культуры и сохранение традиции: [сборник научных трудов семинара «Теория и методология архаики»]. Вып. 6. СПб.: МАЭ РАН, 2013. С. 35-43.
28 .Каспарова К.В. Об одном из возможных компонентов зарубинецкого погребального обряда // СА. 1988. № 1. С. 53-72.
29 Клейн Л. С. Миграция, археологические признаки // Stratum plus. 1999.
№ 1. С. 52-71.
30 Ковпаненко Г.Т. Сарматское погребение І в. н. э. на Южном Буге. Киев, 1986.
31 Колосовская Ю.К. Кельты, иллирийцы, фракийцы на Дунае в V-I вв. // История Европы. Т. 1. Древняя Европа. М.: Издательство «Наука», 1988. С. 504-512.
32 Коллис Д. Кельты: истоки, история, миф / Д. Коллис. М.: Вече, 2007.
288 с.
33 Колобов A.B. Римское военное снаряжение дальней варварской периферии. Проблемы интерпретации // Античность и средневековье Европы. Пермь, 1996. С. 56-69.
34 Колосовская Ю.К. Рим и мир племен на Дунае I-IV вв. н.э. М.: Издательство «Наука», 2000. 288 с.
35 Кулаков В.И. Археологические критерии социальной истории янтарного берега в I-XI вв. н.э. // Stratum Plus (2003-2004). 2005. № 4. С. 278-382.
36 .Кулаков В.И. Всадники на Янтарном берегу в I-IV вв. н.э. // Балто- славянские исследования. 2002. Том XV. С. 467-494.
37 .Кулаков В.И. Грунайки: воссоздание утраченных комплексов // Исторический формат. 2016. № 3. С. 62-81.
38 .Кулаков В.И. Доллькайм-Коврово. Исследования 1879 гг. Минск: Институт истории НАН Беларуси, 2007. 135 с.
39 .Кулаков В.И. Доллькайм-Коврово. Исследования 1992-2002 гг. Минск: Институт истории НАН Беларуси, 2007. 335 с.
40 .Кулаков В.И. 2000. Интерпретация «курганных» погребений эстиев I- III
41 .вв. н.э. // Балто-славянские исследования 1998-1999. XIV. 2000. С. 372- 390.
42 Кулаков В.И. История Пруссии до 1283 года. М.: Индрик, 2003. 402 с. 43.Кулаков В.И. «Княжеские» захоронения в Балтии фаз B1-C1 // КСИА.
2005. № 218. С. 48-65.
44 Кулаков В.И. Контакты населения юга и севера Европы в раннеримскую эпоху: гривны типа Havor // На пороге цивилизации и государственности (по археологическим и иным источникам). Тезисы докладов Всероссийской научной конференции. М., 2014. С. 41-44.
45 Кулаков В.И. Об «Истории римского центуриона, побывавшего…» // КСИА. 2006. № 220. С. 205-210.
46 Кулаков В.И. Провинциально-римские и германские фибулы в материальной культуре населения Янтарного берега I в. н.э. – IV в. до н.э. Калининград, 2014. 134 с.
47 Кулаков В.И. Самбийские пояса и их прототипы // Слово.ру: Балтийский акцент. 2016. № 1. С. 65-78.
48 .Кулаков В.И. Сосуды с налепами в древностях эстиев (на материале могильника Lauth/Б. Исаково) // Slavia Antiqua. 2013. T. LIV. S. 119-143. 49.Куликова Ю.В. «Галльская империя» от Постума до Тетриков. СПб.: Алетейя, 2012. 272 с.
50 Кухаренко Ю.В. Археология Польши. М., 1969. 240 с.
51 Кухаренко Ю.В. Распространение латенских вещей в Восточной Европе // СА. 1959. № 1. С. 31-52.
52 Мачинский Д.А. Кельты на землях к востоку от Карпат // АСГЭ. 1973. № 15. С. 52-65.
53 Мирзоев Е.Б. Мотив жертвенного котла в германской и кельтской мифологии // Грани культуры: актуальные проблемы истории и современности. Материалы VII-VIII межрегиональных межвузовских научных конференций. М., 2014.
54 .Михайлова Т.А. Котел из Гундеструпа как пример "визуального фольклора" // Stephanos – мультиязычный научный журнал. 2015. № 14(6). С. 170-187.
55 .Михельбертас М.М. Римские металлические предметы в Литве // СА. 1965. № 3. С. 163-178.
56 .Новаковский В. Земли над нижним Неманом и Самбийский полуостров в римскую эпоху // Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija. 1997. Vol. V. S. 99-106.
57 .Новаковский В. Мазурско-надровская альтернатива – янтарный путь в эпоху Августа и Тиберия // Калининградские архивы. 2008. № 8. С. 40- 52.
58 .Новаковский В. Проблема присутствия славян на землях в бассейнах Одера и Вислы в римский период и в эпоху переселения народов (на основании письменных источников и археологических находок) // Germania – Sarmatia. Том II. Калининград-Курск, 2010. С. 33-42.
59 .Пачкова С.П. Зарубинецкая культура и латенизированные культуры Европы. Киев, 2006. 328 с.
60 .Погребальный обряд племен Северной и Средней Европы в I тысячелетии до н.э. – 1000 н.э. М.: Издательство «Наука», 1974. 225с.
61 Розен-Пшеворская Я. К вопросу о кельто-скифских отношениях // СА. 1963. № 3. С. 67-79.
62 Пронин Г.Н. Два типа погребений в земле ятвягов // Vakarų baltų archeologija ir istorija. 1989. С. 59-70.
63 Русанова И.П. Этнический состав носителей пшеворской культуры // Раннеславянский мир: материалы и исследования / Отв. ред. И.П. Русанова, С.А. Плетнева. М., 1990. С. 119-151.
64 Савинов Д.Г. К определению понятия «цикличность» в культурогенезе // Цикличность: динамика культуры и сохранение традиции: [сборник научных трудов семинара «Теория и методология архаики»]. Вып. 6. СПб.: МАЭ РАН, 2013. С. 132-140.
65 Савкевич С.С. Янтарь. Л.: Издательство «Недра», 1970. 192 с.
66 Скворцов К.Н. Западные балты и их соседи на Вислинском заливе в римское время // Археология Балтийского региона. М. – СПб.: Нестор- История, 2013. С. 36-49.
67 .Тюрин Е.А. Вооружение всадников самбийско-натангийской и прусской культур I-VI вв. н.э.
68 .Филип Я. Кельтская цивилизация и ее наследие. Прага: Издательство Чехословацкой АН и Артия, 1961.
69 .Флиер А.Я. Культурные индустрии в истории и современности: типы и технологии // Флиер А.Я. Культурология 20 – 11. Авторский сборник эссе и статей. М.: Согласие, 2011. С. 302-330.
70 .Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М.: Академический Проект, 2000. 496 с.
71 .Хеннинг Р. Открытие Балтийского моря // Хенинг Р. Неведомые земли: в 4 т. Том I. М.: Изд-во иностранной литературы. 1961. С. 364-373.
72 .Хомякова О.А. Вопросы социальной интерпретации погребений с «самбийскими» поясами римского времени из ареала культуры Доллькайм-Коврово // КСИА. 2016. № 243. С. 33-46.
73 .Хомякова О.А. Гривны с конусовидными окончаниями (тип "Хавор") самбийско-натангийской культурной группы: вопросы генезиса и хронологии // Петербургский Апокриф. Послание от Марка (Stratum библиотека). СПб-Кишинев, 2011. С. 295-314.
74 .Хомякова О.А. Западнобалтская культура I тыс. н.э.: подходы к определению археологической общности и смена концепций // Развитие взглядов на интерпретацию археологического источника. Тезисы докладов Всероссийской научной конференции. М.: Институт археологии РАН, 2016. С. 74-76.
75 .Хомякова О.А. Культура Доллькайм-Коврово (самбийско- натангинская): подходы к дефинициям общности // РА. 2014. № 1. С. 163-172.
76 .Хомякова О.А. Стиль ажурной орнаментики римского времени в юго- восточной Прибалтике // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Конференция 4. Часть 1 / Ред. А.М. Воронцова, И.О. Гавритухина. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле», 2015. С. 190-231.
77 .Широкова Н.С. Анималистические мотивы кельтской мифологии // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. 2003. № 2. С. 307-321.
78 .Широкова Н.С. Кельтская Британия и Рим после походов Цезаря (вторая половина I в. н.э. – первая половина I в. н.э.) // Мнемон: Исследования и публикации по истории античного мира. 2007. № 6. С. 151-174.
79 .Широкова Н.С. Кельтские друиды: интеллектуальная элита античного мира? // Интеллектуальная элита античного мира. Тезисы докладов научной конференции 8 – 9 ноября 1995 г. СПб., 1996.
80 .Широкова Н.С. Культура кельтов и нордическая традиция античности. СПб.: Евразия, 2000. 352 с.
81 .Широкова Н.С. Переселения кельтов (к вопросу о роли миграций и войн в становлении раннеклассового общества) // Город и государство в древних обществах. Л., 1982. С. 44-56.
82 .Шкунаев С.В. Кельты в Западной Европе в V-I вв. // История Европы. Т. 1. Древняя Европа. М.: Издательство «Наука», 1988. С. 492-504.
83 .Шнирельман В.А. Производственные предпосылки разложения первобытного общества // История первобытного общества. Эпоха классообразования /под ред. Ю.В. Бромлей. Москва: Наука, 1988. С. 5- 139.
84 .Шнирельман В.А. Этничность в археологии – реальность или фантом // Этничность в археологии или археология этничности? Материалы Круглого стола / Отв. ред.: В.С. Мосин, Л.Т. Яблонский. Челябинск: ЦИКР Рифей, 2013. С. 49-81.
85 .Шпирт А.М. Венская школа исторической этнографии и проблема этногенеза в эпоху раннего Средневековья (опыт историографического обзора) // Альманах по истории средних веков и раннего Нового времени. 2013. № 3-4. С. 42-52.
86 .Щукин М.Б. На рубеже эр. Опыт историко-археологической реконструкции политических событий III в. до н.э. – I в. н.э. в Восточной и Центральной Европе. СПб.: Фарн, 1994. 324 с.
87 .Щукин М.Б. Черняховская культура и явление кельтского ренессанса // КСИА. 1973. № 133. С.17-23.
88 .Щукин М.Б. Янтарный путь и венеды // Проблемы археологии. 1998. № 4. С. 198-208.
89 .Энциклопедический словарь по культурологии / под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. А.А. Радугина. М., 1997.
90 .Ярцев С.В., Масленников А.А. К вопросу об изменении религиозных представлений варваров Северной Европы в римское время // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. 2012. Вып. 24. С.15- 23.
91. Baray L. Les mercenaires celtes et la culture de La Tène. Critères archéologiques et positions sociologiques. Éditions Universitaires de Dijon Collection Art, Archéologie & Patrimoine, Dijon, 2014. 228 P.
92. Barford P. Celts in Central Europe and beyond // Archaeologia Polona.
1991. Vol. 29. P. 79-98.
93. Bliujienė A. Northern Gold: amber in Lithuania (c. 100 to c. 1200). Leiden; Boston: Brill, 2011. 426 p
94. Bochnak T. Agrafes zoomorphes celtiques sur les terres polonaises // Istros.
2014. XX. P. 185-205.
95. Bochnak T. L’ambre, mais quoi d’autre sur la route de l’ambre? Les marchandises recherchées par les Celtes au nord des Carpates // Istros. 2015.
XXI. P. 343-380.
96. Bochnak T. Północna droga napływu importów celtyckich na ziemie polskie
– zarys problematyki // Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza. Biskupin – Wrocław, 2010. S. 391-411.
97. Bokiniec E. Cmentarzysko z młodszego okresu przedrzymskiego w Świerkówcu, gm. Mogilno // COMHLAN. Studia z archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Europie Środkowej dedykowane Teresie Dąbrowskiej w 65. rocznicę urodzin. Warszawa, 1999. S. 283-369.
98. Bokiniec E. Kultura oksywska na ziemi chełmińskiej w świetle materiałów sepulkralnych. Toruń, 2008. 442 s.
99. Bürk B. Keltische und kulturell verwandte Funde in Nordostdeutschland – mit besonderer Berucksichtigung der Mittel- und Spätlatènezeit // Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift. 1995. H. 36.
100. Čižářová J., Mĕchurová Z. (eds.). Peregrinatio Gothica. Jantarová stezka. Supplementum ad Acta Musei Moraviae Scienitae Sociales LXXXII. Brno: Moravské Zemské Muzeum, 1997. 218 s.
101. Cofta-Broniewska A. Amber craft in Kuiavia in the era of Przeworsk Culture // Archaeologia Polona. 1984. Vol. 23. P. 149-165.
102. Cordie-Hackenberg R., Wigg A. Einige Bemerkungen zu spätlatène- und römerzeitliche handgemachter Keramik des Trieres Landes // Studien zur Archäologie der Kelten, Römer und Germanen in Mittel- und Westeuropa. Rahden, 1998. S. 103-117.
103. Dąbrowska T. Młodszy okres przedrzymski na Mazowszu i zachodnim Podlasiu. Zarys kulturowo-chronologiczny // Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne. Vol. 7. 2008.
104. Dąbrowska T. Wczesne fazy kultury przeworskiej. Chronologia- zasięg-powiązania. Warszawa, 1988. 339 p.
105. Dehn W. Einige Uberlegungen zum Charakter keltischer Wanderungen // Les mouvements celtiques du V-e au I-e siecle avant notre ere (IX Congres International des sciences prehistoriques et protohistoriques) / Duval P. M. et Kruta V. (eds.). Paris, 1979. P. 15-20.
106. Dobesch G. Zentrum, Peripherie und «Barbaren» in der Urgeschichte und der Alten Geschichte // Zentrum und Peripherie – Gesellschaftliche Phänomene in der Frühgeschichte. Materialien des 13. Internationalen Symposiums «Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum». Wien, 2004. S. 11-93.
107. Dumas E. Un nouvel élément de ceinture féminine en alliage cuivreux de La Tène C en Limagne à Lempdes (F, Puy-de-Dôme) // Instrumentum. 2013. Vol. 38.
108. Duval P.-M. Les dieux de la Gaule. Paris, 1976. 169 p.
109. Ebert M. Truso. Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft. Jahr. 3, Heft 1. Berlin, 1926.
110. Eggers H.J. Der römische Import im freien Germanien. Atlas der Urgeschichte 1. Hamburg: Hamburgisches Museum für Völkerkunde und Vorgeschichte, 1951. 128 s.
111. Engel C. Das Samland als altbaltisches Kulturzentrum und seine vorgeschichtlichen Beziehungen zu den Nachbargebieten // Altpreußische Beitrage. Festschrift. Königsberg, 1933. S. 182-208.
112. Engel C. Die Ostgermanischen Stämme in Ostdeutschland, die gotische Ostseeherrschaft und das Gotenreich in Osteuropa // Deutsche Ostforschung. Ergebnisse und Aufgaben seit den ersten Weltkrieg, Bd. 1. Leipzig, 1942.
113. Engel C. Typen ostpreuβischer Hügelgräber. Neumünster, 1962.
114. Falkenstein F. Anmerkungen zur Herkunftsfrage des Gundestrupkessels, Praehistorische Zeitschrift, T. 79. 2004. S. 57-88.
115. Faszcza M.N. Niedoceniany aspekt celtycyzacji wschodniej części Irlandii // Celtica. Studia z dziejów Celtów, t. I, red. D. Waszak, Kalisz – Oświęcim 2013. S. 35-46.
116. Fernández-Götz M. Questions d’identité à l’âge du Fer: réflexions historiques et regards anthro-pologiques // D. Vitali and C. Goudineau (eds.). Il mondo celtico prima e dopo la conquista romana / Le monde celtique avant et après la conquête romaine. Mélanges en l’honneur de Jean- Paul Guillaumet. Bologna/Dijon: Museo Archeologico Luigi Fantini, 2016. P. 19-30.
117. Godłowski К. Kultura przeworska // Prahistoria ziem Polskich. Т. V. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1981. S. 57-134.
118. Gralak T. Badania osady ludności kultury lateńskiej z Górca stan.13, w powiecie strzelińskim // Śląskie Sprawozdania Archeologiczne. 2012. Vol. 54. S. 139-160.
119. Hachmann R. Die Gundestrup-Studien. Untersuchungen zu den spätkeltischen Grundlagen der frühgermanischen Kunst, Bericht der Römisch-Germanischen Kommission. T. 71. 1990. S. 568-903.
120. Hachmann R., Kossack G., Kuhn H. Völker zwischen Germanen und Kelten. Schriftquellen, Bodenfunde und Namengute zur Geschichte des nördlischen Westdeutschlands um Christi Geburt. Neumunster, 1962.
121. Håkansdotter L. Vikings as transmigrant people. A new approach to hybrid artifacts // Baltic Worlds. 2013. № 2. P. 24-28.
122. Hauschild M. ―Celticised‖ or ―Assimilated‖? In Search of Foreign and Indigenous People at the Time of the Celtic Migrations // Iron Age Communities in the Carpathian Basin. Cluj-Napoca, 2010. P. 171-181.
123. Hawkes C.F.C. Celts and culture: wealth, power, art // Celtic Art in Ancient Europe: Five Protohistoric Centuries. London, 1976. P. 1-27.
124. Hollack E. Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreussen. Glogau-Berlin, 1908. 234 s.
125. Hubert H. The Pise of the Celts. New York, 1988.
126. Jacobsthal P. Imagery in early Celtic art. Unknown Binding, 1942.
127. Jamka R. Cmentarzysko w Kopkach (pow. Nizki) na tle okresu rzymskiego w Małopolsce Zachodniej // Przegląd archeologiczny. T. 5. Z. 1. Poznań, 1933.
128. Jankuhn H. Gürtelgarnituren der älteren römischen Kaiserzeit im Samlande // Prussia. Zeitschrift für Heimatkunde und Heimatschutz. 1933. H. 30 (I). S. 3-62.
129. Jankuhn H. Zur räumlichen Gliederung der älteren Kaiserzeit in Ostpreußen // Archaeologia Geographica. 1950. № 1(4). S. 54-64.
130. Jaskanis J. Obrzаdek pogrzebowy zachodnich baltów u schyłku starożytności (I-V w.n.e.). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1974.
131. Kaczmarek Ł. Miecz obosieczny z okolic Bydgoszczy. Krótki przyczynek do badań nad uzbrojeniem w okresie przedrzymskim. (Double- edged sword from the environs of Bydgoszcz. A short contribution to the studies of weaponry in the pre-roman period) // Studia Europaea Gnesnensia. 2012. № 5. S. 157-165.
132. Kaczyński M. Z problematyki kontaktów zachodnich bałtow z prowincjami Imperium Romanum // Rocznik Białostocki. 1989. T. XVI. S. 157-195.
133. Kaul F. The Gundestrup Cauldron and the Periphery of Hellеnistic World // Centre and Periphery in the Hellenistic World, Studies in Hellinistic Civilization /Eds. Bilde P., Engberg-Pedersen T., Hannestad L., Zahle J. & K. Randsborg. Aarhus, 1993. P. 39-52.
134. Kaul F., Martens J. Southeast European Influences in the Early Iron Age of Southern Scandinavia. Gundestrup and the Cimbri // Acta Archaeologica. 1995. Vol. 66. P. 111-161.
135. Kazakevich G. The Late La Tène Decorated Scabbard from the Upper Dniester Area: a Far Relative of the Gundestrup Cauldron? // Studia Celto- Slavica 5. Dimensions and Categories of Celticity: Studies in Literature and Culture. Proceedings of the Fourth International Colloquium of Societas Celto-Slavica. Łódź, 2010. P. 171-180.
136. Kazanski M. Les Slaves. Les origines (Ier – VIIe siècle après J. – C.) /
M. Kazanski. Paris, Errance, 1999.
137. Kobylińska U. Sambian style in the Early Roman period: the problem of origin and development of aesthetic norms // Archaeologia Polona. 1981. vol. 20. P. 123-158.
138. Kokowski A. Udział elementów celtyckich w strukturze cmentarzyska birytualnego w Kruszy Zamkowej, woj. Bydgoszcz, st. 13 (Próba falsyfikacji pojęcia "grupy kruszańskiej") // Archeologia Polski. 1991. Vol. 36. S. 115-149.
139. Kolendo J. A la recherche de l’ambre baltique. L’expédition d’un chevalier romain sous Neron. Warszawa: Wydawnictwa Universytetu Warszawskiego, 1981. 116 p.
140. Kruta V. L’art celtique en Bohème. Les parures métalliques du Ve au IIe siècle avant notre ère. Champion, Paris, 1975. 303 p.
141. Kruta V. La place et la signification du cheval dans l’imagerie celtique // Études Celtiques. 2012. Vol. 38. P. 43-60.
142. Kruta V. Les Celtes: histoire et dictionnaire: des origines à la romanisation et au christianisme. Paris, 2000.
143. Kulakov V.I. Les contacts entre la cote sud de la Baltique et Rome a l’epoque de Neron // Les sites archéologiques en Crimeé et au Caucase durant l’Antiquité tardive et la haut Moyen-Age. Colloquia Pontica. Vol. 5. Leiden-Boston-Köln, 2000. P. 29-35.
144. Lau N. Zugelkettzaumzeug der jüngeren und späten Römischen Kaiserzeit – Neue Untersuchungen zu Typen, Verbreitung, Herkunft und Datierung // Abegg-Wigg A., Rau A. Aktuelle Forschungen zu Kriegsbeuteopfern und Fürstergräbern in Barbaricum. Neumünster, 2008. S. 25-54.
145. Laur W. Aisten/Esten, eine germanische Volksbezeichnung im baltischen Raum // Zeitshrififür Ostforschung. Länder und Völker im östlichen Mitteleuropa. 1954. 3 Jahrg., Heft 2. S. 223-233.
146. Lund Hansen U. Römische Import im Norden / Nordische Fortminder. Serie B. Bd.10. København, 1987. 487 s.
147. Mączyńska M. Der frühvölkerwanderungszeitliche Hortfund aus Lubana, Kreis Kościerzyna (Pommern) // Bericht der Römisch- Germanischen Komission. Bd. 90. Frankfurt-am-Main: Verlag Philipp von Zabern GmbH, 2011. S. 5-148.
148. Madyda-Legutko R. Die Gürtelschnallen der Römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum. Oxford: British Archaeological Reports, 1986. 233 p.
149. Mann M. The Sources of Social Power. Volume 1. A History of Power from the Beginning to AD 1760. 2012. 549 p.
150. Mantel E., Devillers S. Les agrafes de ceintures du sanctuaire de Fesques // Le sanctuaire de Fesques «le Mont du val aux Moines» (Seine- Maritime), 1997.
151. Margos U., Stąporek M. Jeszcze jeden wczesnorzymski zespół z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Lasach, pow.Sztum // Pomorania Antiqua. 2001. Vol. 18.
152. Megaw R. and V. Celtic Art. From its beginnings to the Book of Kells. New York, Thames & Hudson, 2001.
153. Meylan Fr., Perrin Fr., Schönfelder M. L’artisant dans les oppida de l’Europe tempérée: un état de la question // Les artisans dans la Ville antique. Collection Archéologie et Histoire de l’Antiquité Université Lumière-Lyon 2, vol. 6. Paris, 2002. P. 77-99.
154. Müller-Wille M. Pferdegrab und Pferdeopfer im frühen Mittelalter // Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Boemonderzoek. 1970/1971. Nr. 20-21. S. 119-248.
155. Nielsen S. et al. The Gundestrup Сauldron. New Scientific and Technical Investigations // Acta Archaeologica. 2005. Vol. 76.
156. Nowakowski W. Auf derr Suche nach dem "Gold der Nordens". Rom, die Barbaren und die Bernsteinstrasse // Swiatowit. 2012. VII (XLVIII). P. 95-107.
157. Nowakowski W. Das Samland in der römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit dem römischen Reich und der barbarischen Welt. Veröffentlichung des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg 10. Marburg- Warszawa, 1996. 169 s.
158. Nowakowski W. Korzenie Prusów. Stan i możliwości badań nad dziejami plemion bałtyjskich w starożytności i początkach średniowiecza // PRUTHENIA. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim. 2006. Vol. 1. S. 11-41.
159. Nowakowski W. Kultura bogaczewska na Pojezierzu Mazurskim od schyłku póznego okresu przedrzymskiego do starszej fazy póznego okresu wpływów rzymskich. Próba analizy chronologiczno-kulturowej // Kultura bogaczewska w 20 lat później, Seminarium Bałtyjskie I. Warszawa, 2007.
160. Nowakowski W. Kultura przeworska a zachodniobałtyjski krąg kulturowy // Kultura przeworska. Lublin, 1994. S. 373-388.
161. Nowakowski W. Kulturowy krąg zachodniobaltyjski v okresie wpływów rzymskich. Kwestia definicji i podziałów wewnętrznych // Archeologia baltyjska: materiały z konferencji, Olsztyn, 24-25 kwietnia 1988 roku / Ed. H. Judziń ska. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych Im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1991. P. 42-66.
162. Nowakowski W. Od Galindai do Galinditae. Z badań nad pradziejami bałtyjskiego ludu z Pojezierza Mazurskiego // Barbaricum. 1995. № 4.
163. Nowakowski W. Z problematyki kontaktów bałtyjsko- skandynawskich w okresie wpływów rzymskich // Pruthenia. 2008 (2009). Vol. IV. S. 43-85.
164. Okulicz J. Grupy mrągowska i węgorzewska kultury zachodniobałtyjskiej // Rocznik Białostocki. 1981. XIV. S. 151-167.
165. Okulicz Ł. Kultura kurhanów zachodniobałtyjskich we wczesnej epoce żelaza. Wrocław-Warszawa-Kraków, 1970.
166. Okulicz J. Powiązania pobrzeża wschodniego Bałtyku i centrum sambijskiego z południem w podokresie wczesnorzymskim // Kultury archeologiczne i strefy kulturowe w Europie środkowej w okresie wpływów rzymskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CCCCXXII, Prace Archeologiczne 22. Kraków, 1976. S. 181-213.
167. Okulicz J. Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. n.e. Monografie Dziejów Społecznych i Politycznych Warmii i Mazur I. Wrocław, 1973.
168. Okulicz Ł. Studies on the culture of West Balt Tumuli in the early Iron Age // Archaeologia Polona. 1969. Vol. 11. P. 35-58.
169. Olmsted G. Celtic art in transition during the first century BC. An examination of the creations of mint masters and metal smith, and an analysis of stylistic development during the phase between La Tène and provincial Roman. Budapest, 2001.
170. Powell T. G. E. From Urartu to Gundestrup: the Agency of Thracian Metal-Work /Eds. European Community in Later Prehistory Boardman /Eds. J., Brown, M. A., & T. G. E. Powell. London, N.J., 1971.
171. Riha E. Die römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. Die Neufunde seit 1975. Augst, 1994. 206 s.
172. Rosen-Przeworska J. Problem pobytu Celtów w Małopolsce // Archeologia Polski. T.1. 1957. S. 35-81.
173. Rosen-Przeworska J. Zabytki celtyckie na ziemiach Polskich // Światowit. 1948. Tom XIX. S. 179-322.
174. Rudnicki M., Miłek S. New evidence on contacts between Pre-Roman Dacia and territory Central Poland // Acta Archaeologica Carpathica. 2011. Vol. XLVI. P. 117-143.
175. Rustoiu A., Berecki S. Celtic Elites and Craftsmen: Mobility and Technological Transfer during the Late Iron Age in the Eastern and South- Eastern Carpathian Basin // Iron Age Crafts and Craftsmen in the Carpathian Basin, Tg. Mureş 2014. P. 249-278.
176. Rzeszotarska-Nowakiewicz A. Man hätte auf dem Gute Grüneiken Hünengräber entdeckt». Próba rekonstrukcji wyglądu grobów na cmentarzysku w Grunajkach // Kultura bogaczewska 20 lat później. Warszawa: Państwowe Muzeum archeologiczne, 2006.
177. Shchukin M.B. Rome and the Barbarians in Central and Eastern Europe. 1st cent. B. C. – 1st cent. A. D. (BAR Int. Ser. 542 (I-II)). Oxford, 1989. 491 p.
178. Sievers S. Vorbericht über die Ausgrabungen 1998-1999 im Oppidum von Manching. Germania. 2000. № 78. S. 355-394.
179. Skvortsov K.N. The Formation of a Sambian-Natangian Culture Patrimonial Elite in the Roman Period in the Context of the Amber Trade // Archaeologia Baltica. 2012. Vol. 18. P. 167-191.
180. Tischler О., Kemke Н. Ostpreussische Altertümer aus der Zeit der grossen Gräberfelder nach Christi Geburt. Königsberg, 1902. S. 14-46.
181. Ulf Ch. Rethinking Cultural Contacts // Ancient West and Est. 2009. 8. P. 81-132.
182. Vial E. Les représentations animales en métal du second âge du Fer en Europe moyenne tempérée. Thèse du doctorat non publiée. Université Franche-Comté, Besançon, 2005.
183. Vogt U. Die latenezeitliche Saline von Bad Nauheim // Roman P. (ed.). The Thracian World at the Crossroads of Civilizations I. Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology. Bucharest: Romanian Institute of Thracology, 1996. S. 181-183.
184. Wenskus R. Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen gentes. Böhlau-Verlag, Köln/Graz 1961. 656 s.
185. Wielowejski J. Glowny szlak bursztynowy w czasach cesarstwa Rzymskiego. Wroclaw, 1980.
186. Wielowejski J. Kontakty Noricuma i Pannonii z ludami polnocnymi. Wroclaw; Krakow, 1970. 300 s.
187. Wilbers-Rost S. Pferdegeschirr der römischen Kaiserzeit in der Germania libera. Zur Entstehung, Entwicklung und Ausbreitung des
„Zaumzeugs mit Zügelketten―. Oldenburg, 1990. 229 s.
188. Wołągiewicz R. Naplyw importów rzymskich do Europy na pólnoc od srodkowego Dunaju // Archeologia Polskei. T. XV. 1970. S. 207-252.
189. Woźniak Z. Osadnictwo celtyckie w Polsce. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław- Warszawa-Kraków, 1970.
190. Żórawska A. Bursztyn w kulturze kurhanów zachodniobałtyjskich // Światowit. 2001. № 3(44,B). S. 213-231.
Приложение № 1
Котел из Гундеструпа Приложение № 2
Зооморфные застежки на территории Польши
– Нова Цереквиа (Nowa Cerekwia); 2 – Гужец (Gуrzec); 3 – Щвиркувьец (Њwierkуwiec); 4 – Вшедзьень (Wszedzieс); 5 – Омице (Omice), Чехия. Приложение № 3
Изображение носа корабля на римской монете в период Республики (А), кельтских монетах (статеры) типа Пейчиск (В), типа Фрайбург (С), типа Модлинички (D), еще одной разновидности типа Фрайбург (Е), типа Уолис (F)
А B C
D E F Приложение № 4
«Око» Аполлона на монетах треверов (А) и статера из Маслова (B)347
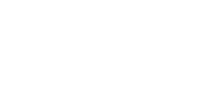
A B Приложение № 5
Разделение изображения оборотной стороны статера из Гасека на составляющие и сопоставление со статером из Маслова (пара A-C) и статера из Словакии (пара B-D)
A B
C D Приложение № 6
Статер из Гасека Приложение № 7
Статеры с кладбища у Разрушенного Замка, Иноврацлав (Inowrocław), Куяво-Поморское воеводство, северная Польша Приложение № 8
Северный морской путь


