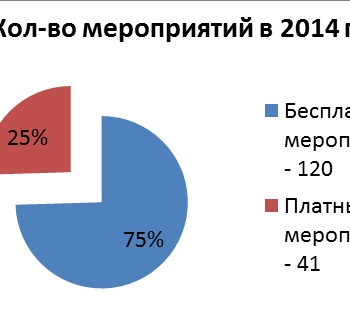- Вид работы: Дипломная (ВКР)
- Предмет: Культурология
- Язык: Русский , Формат файла: MS Word 4,25 Мб
Эстетика черного юмора в кино
Санкт-Петербургский государственный университет
Факультет свободных наук и искусств
ЭСТЕТИКА ЧЕРНОГО ЮМОРА В КИНО
Курсовая работа III курса
Профиль подготовки – кино и видео
Анастасия Геннадьевна Волохова
Научный руководитель Александр Григорьевич КОЗИНЦЕВ
Доктор исторических наук,
главный научный сотрудник отдела антрополонии
Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера)
Санкт-Петербург 2015
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ. ЧЕРНЫЙ ЮМОР И ТРАНСГРЕССИЯ. ИГРА, СМЕРТЬ И СМЕХ. СТИЛИСТИКА ЧЕРНОГО ЮМОРА
.1 Черный юмор и сюрреализм
.2 У истоков черного юмора: поэзия Бодлера. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕРНОГО ЮМОРА В КИНО
.1 Темы черной кинокомедии
.1.1 Cмерть
.1.2 Cекс
.1.3 Еда
.1.4 Безумие и наркотическое опьянение
.2 Форма черной кинокомедии
.2.1 «Головокружение
.2.2 Ритм и музыка
.2.3 Визуальный юмор
.2.3.1 Искажение времени и пространства. Замедленная и убыстренная съемка
.2.3.2 Многократная экспозиция и спецэффекты
.2.4 Техника создания образа и техника острот
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Еще на первом этапе данного исследования, я столкнулась с проблемой, состоящей в том, что черная кинокомедия – имеет много различных форм, а единого его определения не существует. Проведя небольшой опрос, я составила список черных комедий, варьирующих по внешним признакам от низкобюджетных треш-картин до гангстерских фильмов и фильмов ужасов, тем не менее, оставаясь, на мой взгляд комедиями. Исходя из моего опроса, я выяснила, что черной кинокомедией в первую очередь считаются фильмы, где главный герой – это антигерой (человек асоциальный, циничный и аморальный) вроде антигероев Г. Ричи и К. Таррантино. Это говорит о том, что рядовой зритель связывает черный юмор в основном с главным героем. Маргинальный статус антигероя раскрывается в рамках дозволенных границ.
Тем не менее, как я постараюсь показать, черный юмор не знает никаких границ. Его стилистика проявляется в авангардных приемах и странных историях. Поэтому придавать основную главному герою было бы неверным, ведь он сам лишь один из элементов целостного произведения. Насколько широко само понятие черного юмора, настолько широко в этом плане следует смотреть и на черную кинокомедию. Центральными темами моей работы являются истоки черного юмора, его стиль, его приемы и его специфика в кино.
Задачей данного исследования является не только попытка определить стилистику черной кинокомедии, но и показать средства с помощью которых черная кинокомедия воплощает трансгрессивный опыт. Для этого следует прояснить связь черного юмора с трансгрессией. Основывая свою аргументацию на философском и антропологическом контексте данной проблемы, я предлагаю собственное определение черного юмора, из которого и буду исходить в дальнейшей работе.
Исследовательской проблемой работы является возможность художественной передачи трансгрессивного опыта в черной кинокомедии. Предметом работы является стилистика черного юмора, ее проявления в кино; объектом – фильмы, созданные в разные исторические эпохи и соответствующие моему определению черной кинокомедии. Исходя из проблемы данной работы, я выделяю несколько целей данного исследования:
Основываясь на существующих теориях комического, определить, в чем отличие черной комедии от классической комедии и рассмотреть проявления трансгрессии в черных кинокомедиях;
Изучить главные черты стилистики черного юмора;
Определить и классифицировать стилистические приемы, характерные для черного юмора в кино, и попробовать соотнести эту эстетику с трансгрессией.
Достичь поставленных целей я предполагаю с помощью следующего метода:
. Попробовать подойти к черному юмору через переживание, корни которого уводят нас в архаический праздник.
. Рассмотреть это переживание через сюрреализм и поэзию Бодлера, которые считаются общепризнанными примерами черного юмора. Определить тем самым основные моменты стилистики;
. Проанализировать большое количество различного киноматериала и выделить общие черты, присущие стилистике черного юмора.
. Определить и классифицировать темы, которые лежат в основе черной кинокомедии, и отдельно выделить техническо-стилистические приемы, которые свойственны данной эстетике.
I. ЧЕРНЫЙ ЮМОР И ТРАНСГРЕССИЯ. ИГРА, СМЕРТЬ И СМЕХ
Чтобы подойти к эстетическим и стилистическим особенностям черной комедии в кино, необходимо идти постепенно, от общего к частному, и рассмотреть два аспекта: 1) понятие «черный юмор» и 2) специфика черного юмора в кино. Попытаюсь показать соотношение этих аспектов на конкретных примерах. Прежде всего объясню, что я понимаю под черным юмором и как он соотносится с юмором в целом.
Черный юмор «черен» потому, что обращается к таким темам, как смерть, страдания, насилие и уродство. Согласно распространенному мнению, эти явления плохо поддаются юмористической трактовке. Кажется естественным видеть их в трагедиях, драмах, фильмах ужасов, ведь «объективно» они уместны именно там. Но черный юмор доводит до предела качество, присущее юмору в целом – субъективность. В юморе она проявляется гораздо сильнее, чем в других формах отношения к жизни. Юмор (и черный юмор в особенности) в первую очередь является чертой восприятия самого автора: он работает как своеобразный фильтр, полностью меняющий смысл используемого материала. Важно здесь не то, что нам показывают, а то, как это показывается. Объективно «черные» явления – такие, например, как смерть – становятся смешны благодаря художественной форме.
Жан Поль утверждал, что «комическое, как и возвышенное, никогда не обитает в объекте, но всегда обитает в субъекте». В отличие от трагедии, комедия создается исключительно благодаря авторской трактовке, а когда автора нет и комедия существует лишь в нашем воображении — благодаря особенностям нашего восприятия, нашей способности превратить в комедию что угодно.
Комедия, согласно Аристотелю, «подражает худшим людям». При этом она не только показывает их, делая их смешными, но порой и демонстрирует нам их внутренний опыт, помещая нас в мир дурака или психопата. Именно на этом, вероятно, и основан черный юмор.
Персонажам комической фантазии (в отличие от трагических героев) трудно сопереживать, ни с кем из них мы не можем себя отождествить. Встреча с произведением происходит на другом уровне – в пространстве эстетического суждения, когда происходит совпадение во вкусах между зрителем и автором. В кинокомедии мы отождествляемся не с героями, а с режиссером, который не раскрывает нам «черные» темы всерьез, как это делают создатели трагедий и фильмов ужасов, а лишь играет с ними. Чтобы разобраться в этом, следует обратить внимание на природу игры, которая разворачивается на экране.
Первые упоминания о юморе как игре мы встречаем у И. Канта в «Критике способности суждения». Смешное, по Канту, относится к одной из «игр ощущений». Шутка, как и музыка, является разновидностью «игры эстетическими идеями, или представлениями рассудка, посредством которых ничего не мыслится и которые исключительно благодаря тому, что они сменяют друг друга, могут доставлять удовольствие». Радость от шутки заключена в форме, а не в содержании. Мы ожидаем серьезной трактовки, но наши ожидания не оправдываются. «Cмех – это аффект, возникающий из внезапного превращения напряженного ожидания в ничто».
Жан Поль в «Приготовительной школе эстетики» противопоставляет юмор возвышенному, в частности, морали и нравственности: «Для смешного остается лишь царство рассудка, а из всего этого царства одна область – безрассудство». Таким образом, юмор – это свободная игра рассудка и воображения.
Что же такое игра? Хейзинга в книге «Homo ludens» одним из первых обратил внимание на игру как основу культуры. Он на многочисленных примерах показал разнообразные формы, которые может принимать игра. «Реальность, именуемая Игрой, ощутимая каждым, простирается нераздельно и на животный мир, и на мир человеческий. Следовательно, она не может быть обоснована никакими рациональными связями, ибо укорененность в рассудке означала бы, что пределы ее – мир человеческий». Анализируя довольно значительный промежуток истории, автор находит игру во всем – в рыцарских турнирах, ритуалах, этикете и искусстве. Хейзинга показал трансформацию игры в разные эпохи, связь ее с культурным прогрессом и упадком. Так как игра, по Хейзинге, является первопричиной культуры, ее корни находятся в природе, дух которой человек старается обуздать, придать ему структуру.
Хейзинга анализирует внутреннее устройство ритуала и говорит об общих чертах игры и культа: «…Само понятие игры как нельзя лучше охватывает это единство и неразрывность веры и неверия, это соединение священной серьезности с “дурачествами” и притворством». Это мы хорошо можем увидеть в архаическом празднике, который Хейзинга называет «священной игрой», «где дитя и поэт чувствуют себя как дома, так же как и дикарь».
Безудержный дух игры, сопровождающийся смехом, мы находим в архаическом празднике. Эта его особенность ярко проявлялась в карнавальном поведении, описанном М.М. Бахтиным в книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренесcанса». Праздник с его площадными действами был временем, когда переворачивались любые оппозиции. Согласно Бахтину, это было связано с безудержным весельем и свободой, которые противостояли религиозной серьезности и строгости официальной идеологии. Карнавал был противопоставлен религиозности с ее культом страдания и страха. «Серьезность угнетала, пугала, сковывала; она лгала и лицемерила; она была скупой и постной. На праздничной площади, за пиршественным столом серьезный тон сбрасывался, как маска, и начинала звучать иная правда в форме смеха, шутовских выходок, непристойностей, ругательств, пародий, травестий и т. п.».
Атмосфера праздника избавляла от страха, в праздничных действах человек торжествовал над смертью. Карнавальное «антиповедение» с его вольностями, сопровождаемыми смехом, показывает, что у черного юмора очень глубокие корни. «Этическая» его трактовка противоречит сути данного явления, потому что само сознание участников меняет свою форму.
Об этом много писала и О. М Фрейденберг, которая указывала, что особенность архаического мировосприятия – «обезличенное равенство, тождество всех привычных нам оппозиций: объекта и субъекта, жизни и смерти, неба и земли, слова и действия, человека и природы». Так, «еда», «производительный акт», «смерть» стёановятся лишь средством выражения одного явления, которое воплощается в мифическом сознании через гротескное разыгрывания свадьбы, жертвоприношения, победы, пира и суда. Всё это приводило людей в особое состояние, которое сопровождалось возрождающим и целительным смехом. «Смех зарождает плод в земле и в чреве, и акт улыбки повторяет момент еды. Деметра, улыбнувшись от слов Ямбы начинает есть и пить; в обрядах смерти бога плодородия рядом с трапезой появляется и элемент веселья. Эта священная роль улыбки передается и персонифицируется в носителе смерти, шуте, который в предыдущем периоде сам был тотемом-вожаком, а затем и божеством смерти»
О.М. Фрейденберг указывает на метафоричность первобытного сознания. «Этот процесс осмыслений и есть процесс метафоризации, посредством которого семантическое безличие получает многообразную структуру. Стадиальные изменения смысла переоформляют метафоры; но соотношение между образом и его (…) выражениями в метафорах остается, в пределах архаичной формации, все тем же». Та же метафоричность свойственна и эстетическому осмыслению мира.
В чем же проявляется игра в празднике и обряде? В коллективном мифологическом мировосприятии отдельного участника и в чувственном опыте толпы. Разные типы игр образуют различные сочетания. Р. Кайуа считает сочетание игр типа mimicry (миметических) и ilinx (связанных с вихревым движением) особенно характерным для архаического праздника и средневекового карнавала.
Возбуждение толпы заражает всех участников, нарушает привычное восприятие: танцы, музыка, маски приводят к потере отдельным человеком идентичности. По Р. Кайуа, у участников в прямом смысле искажается видение, нарушается мышление, сила неистовой сладостной паники овладевает всеми . В эти моменты человек и отдается страху, и побеждает его, сливаясь с ним воедино. Коллектив в празднике становится единым организмом, игра и фантазия вырываются и нарастают в форме неконтролируемого порыва. Вот как Р. Кайуа описывает игры типа ilinx; которая характерна для архаического праздника и средневекового карнавала. «Охваченный головокружением поддается тяготению пропасти…Он чувствует, что может мыслить и осуществлять только те жесты, которые ввергают его в нее, как будто зловещий образ разрушения удовлетворяет какому-то его извращенному вкусу и пробуждает в тайной глубине его существа какое-то сокровенно-безжалостное сочувствие». Субъект снимает с себя все культурные роли и отдается под власть хаотичной природы, которая убивает его как автономную личность. Головокружение начинается в момент, когда человек стоящий на краю пропасти заглядывает в бесконечную тьму и созерцает абсолютную пустоту.
Здесь можно вспомнить и слова Канта об «обращении ожидания в “ничто”», и размышления Бергсона о «кратковременной анестезии сердца» при восприятии комического. «Отойдите в сторону, — пишет Бергсон, –взгляните на жизнь как безучастный зритель: многие драмы превратятся в комедию» В самом деле, после непосредственного переживания «Ничто», все прочее кажется ничтожным и смешным.
Не подводит ли это нас к сути черного юмора? Карнавальное буйство, изображенное у Рабле, и мистический опыт первобытного праздника становятся опытом сверхъестественного. Отдавшись абсолютной свободе, человек преодолевает себя, он словно обретает бессмертие и, доводя свою телесность до края возможного, приходит в состояние экстаза. При этом он теряет себя и сливается с миром, поглощаясь собственным бессознательным. Полученный таким способом опыт трансформирует личность, для которой горизонт возможного постоянно отдаляется.
В статье «Переживание смерти в игре как аспект становления личности» И.А. Морозов анализирует различные игровые формы славянской культуры и показывает, что игра по своей семантике может быть тесно связана со смертью. Игра всегда подходит к концу, она начинается для того, чтобы закончиться. Оставаясь собою, игра, тем не менее, рождает в нас реальные переживания, увлекает и волнует. «И все же в любом случае нельзя утверждать, что смерть в игре является фикцией. Дело в том, что “ненатуральность”, “невсамоделишность” игровой смерти, символически связанной с игровым поражением или проигрышем, полностью нейтрализуется вполне реальными социальными последствиями. Игровой проигрыш обычно обозначает смерть социальную, поскольку он влечет за собой утрату ценностей и имущества, а следовательно и поражение в правах, утрату статуса или иных ценностно важных личностных качеств.» Проигравший переживает символическую смерть, за которой следует возрождение.
Речь, следовательно, идет о трансгрессии. Субъект в игре преодолевает самого себя, выходит за рамки своих представлений, предстает таким, какой он есть. «Таким образом, можно утверждать, что игровой проигрыш, который влечет за собой “социальную смерть”, на самом деле – это разрушение и гибель персоны в юнговском смысле, т. е. личности индивида в том виде, в каком она представлена другим, в противоположность «аутентичному Я».
Срывание социальных масок, переворачивание социальных ролей происходило и в древнем празднике. Но он остался далеко в прошлом, а современная культура не может предложить нам ничего похожего на коллективный экстаз смехового обряда. В современных праздниках мы не встречаем той сплоченности толпы и всеобщего веселья. Здесь не переворачивается социальный порядок – наоборот, все регламентировано сверху. Таким образом, ilinx становится делом индивидуальным. Человек наших дней должен сделать выбор -играть ли ему со смертью самостоятельно и трансформироваться в игре подобно древнему человеку, или же оставаться самим собою и бояться смерти. Морозов заключает: «Именно при столкновении со смертью в игре мы наблюдаем смерть и рождение “персоны”, символизирующие “перерождение” личности, обретение ею нового статуса, а следовательно и новых возможностей».
Это подводит нас к вопросу о трансгрессии в черном юморе. Смеющийся «убивает» себя как часть общества, которое не только ставит ему запреты, но и не смеется вместе с ним. Черный юмор, таким образом, рождается внутри субъекта благодаря его внутреннему опыту «игрового самоубийства», и именно этот опыт дает ему право смеяться, поскольку невозможное пережито.
Ж. Батай в работе «Внутренний опыт» пишет о смехе и переживании границы возможного. Четыре основные темы проходят сквозь эту книгу – безумие, смерть, экстаз и оргазм. Смех, согласно Батаю, сопровождает любое из этих состояний. «Смешное, нечто определяя, отрицает самое себя. Смешным является то, чего мне не достает сил вынести.» Смех становится мерой внутреннего опыта игрового самоубийства. Этот опыт – единственный самодостаточный авторитет, который, словно молния, пронзающая башню, подрывает основы нашего мышления. Ту же природу имеет и смех – «разрушительный дух анархии», несущий бессознательное удовольствие или экстаз. Автор пишет: «Вся мораль смеха, риска, экзальтации доблестей и сил есть не что иное, как дух решимости. И тогда – на грани смеха – человек прекращает хотеть быть всем, наконец-то он хочет быть таким, каков он есть, несовершенным, незавершенным, добрым – если потребуется, вплоть до невозможных моментов жестокости; и прозорливым…до слепоты смерти.»
Подводя итоги рассмотрения отношений между игрой, смехом и смертью, отметим, что черный юмор в определенном смысле можно считать «игровым самоубийством». Я хочу предложить следующее определение: черный юмор – это игровое самоубийство субъекта. Поэтому черный юмор не является чем-то новым – он коренится в метафорическом мышлении первобытных обществ. Он проявление того самого бессознательного, коллективного или индивидуального, которое некогда вырывалось наружу в архаичном празднике, а сегодня проявляется в эстетической способности воспринимать действительность с помощью субъективного опыта.
Если в мифах и ритуалах смех нес целительную функцию для всего социума, то сейчас он стал более индивидуален. Трансгрессивный опыт, который переживала толпа в карнавале, теперь становится внутренним опытом человека, решившегося встать на этот путь, и именно одиночество иногда омрачает его радостный смех. Намного сложнее найти в современной культуре хоть что-то объединяющее людей, чем указать то, что их разделяет. Черный юмор может выглядеть жестоким и шокирующим, но в его основе то же игровое самоубийство, которое сплачивало участников древнего праздника.
Режиссеры авторского кино, передающих нам свой опыт игрового переживания смерти через стиль и организацию произведения, выполняют очень трудную задачу. Черные комедии строятся на живой чувственности, на гротескных и поэтических образах, направленных прямо на нас и вызывающих шок и панику. Такие образы должны работать как точки сингулярности, которые с помощью особенной чувственности способны обратить зрителя к его собственному опыту переживания смерти. Комическая форма фильма, его эстетика становится местом встречи автора и зрителя, где узнавание либо срабатывает либо нет, так как восприятие черного юмора зависит от внутреннего опыта не только режиссера, но и того, кто смотрит фильм.
II. Стилистика черного юмора
На последний вопрос я отвечаю утвердительно. Черный юмор в кино – это именно стиль. Это чувственная форма, в которую автор облекает содержание фильма -нарратив или сюжет. Черная кинокомедия отличается от классической тем, что при ее просмотре зритель не смеется, ведь смеяться непосредственно над смертью может лишь безумец. Но эстетика с легкостью трансформирует то, что нам не хватает сил вынести, делая самые ужасные и жестокие образы доступными для созерцания и даже притягательными. Такая эстетика может воплощаться в разных жанрах – драме, трагикомедии, триллере, фильмах ужасов, треше, гангстерских фильмах. Иногда она выходит за рамки этих жанров, причем в центре внимания оказывается не содержание, а стиль, как мы это можем видеть на примере американского авангарда 80-х -90-х гг. В таких фильмах автор через стиль напрямую воздействует на зрителя. Такой фильм не уводит нас во внутренний мир произведения, а вызывает в нас внутренний конфликт. Автор как бы ставит эксперимент с нашим восприятием и воображением, расширяя их границы. Он не репрезентирует реальность, а ставит ее под вопрос. Подобно архаическому празднику, черная кинокомедия создает особое ощущение пространства-времени, искажая наше восприятие и разрушая представления о причинно-следственных связях. Делая это, она сталкивает нас с первородной пустотой, срывает социальные маски, разрушает конструкты и схемы, через которые мы привыкли мыслить реальность.
2.1 Черный юмор и сюрреализм
Чтобы понять, как и с чем именно работает стилистика черного юмора, необходимо обратиться к месту и значению данной стилистики в истории искусств. Впервые термин «черный юмор» был употреблен Андре Бретоном, одной из ключевых фигур сюрреализма, что отнюдь не случайно. Здесь проявляется близость черного юмора к авангардным движениям 20-х гг. Cюрреализм, как и дадаизм, – это не просто художественные течения среди других. Это выражение тотального бунта, актуального и в наши дни. В его основе – абсолютная свобода, разрушение любой традиции, нормы, культуры, разума. Художник-сюрреалист предается неограниченной игре воображения, работает на стыке реальности и сна, смешивая их в одну сверх-реальность.
Это созидательное разрушение заставляет вспомнить о смеховом обряде, участник которого отказывался от своей личности. Черный юмор, уничтожающий все базовые оппозиции (добро/зло, мужское/женское, прекрасное/безобразное, истинное/ложное и т.д.), был основным инструментом сюрреалиста, пытающегося прорваться к собственному бессознательному. А. Бретон пишет в «Манифесте сюрреализма» (1924), что рациональное мышление стало клеткой для фантазии и опыта, но существуют иные внутренние силы скрытые в подсознании. Овладев ими, человечество сможет расширить границы возможного. Именно на такую трансгрессию и был нацелен проект сюрреализма. Черный юмор, вырывающийся из глубин бессознательного, становится важнейшим элементом сюрреалистического мировоззрения. «Если учитывать исторический контекст 1930-х годов, когда разрабатывалась концепция черного юмора, – время сближения Бретона и Батая, собиравшихся основать антифашистское движение «Контратака», – то бретоновский черный юмор можно рассматривать как воплощение абсолютной трансгрессии в батаевском смысле этого слова: это, согласно формулировке М. Фуко, профанация в мире, который не признает более позитивного смысла сакрального».
Сюрреалист выходит за рамки, отстраняется и от мира, и от себя, наблюдая за собственным наблюдением. Это является фундаментом творчества. Черный юмор позволял сюрреалистам возвыситься над реальностью, посмотреть на мир как на театральную постановку. Отсюда бесконечная свобода игры воображения. Черно-юмористическая игра не знает границ, она служит инструментом, с помощью которого автор вырывает зрителя из зоны комфорта. Стоит вспомнить проект «театра жестокости» Антонена Арто, где актер достигает катарсиса, «отрицая себя по мере своего высвобождения и слияния с космосом». Таким был и сюрреалистический «Театр Альфреда Жарри», зритель которого «должен был выходить со спектакля потрясенный и смущенный увиденным, в состоянии «человеческой тревоги», когда он ощутил бы утрату всяких ориентиров.»
Сюрреалистическое искусство стремилось создать нового человека – сознательного, решительного, постоянно трансформирующегося, бесстрашного и свободного, живущего в единстве тела, разума и духа. Сюрреализм становится образом жизни и мысли, где заключенный в нем черный юмор «становится еще одним проявлением духовного бунтарства, восстанием против смерти и несправедливости», готовностью к любой опасности и риску в своем «стремлении прорваться за пределы возможного».
.2 У истоков черного юмора: поэзия Бодлера
Будучи рассмотрен в контексте сюрреализма, черный юмор становится несколько понятнее, и все же остается много вопросов. Если стихия черного юмора разрушительна, то как связать ее с огромной творческой энергией, заключенной в произведении? Противоречивость и амбивалентность данного явления делает сам механизм подобной эстетики неуловимым, нам трудно его артикулировать.
Чтобы определить главные черты стилистики черного юмора, перейдем от общих слов к конкретным примерам. Очень иллюстративным примером служит поэзия Шарля Бодлера, чьи произведения, яркие и шокирующие, позволяют лучше понять суть такой эстетики. Существенно, что Бретон включает стихи Бодлера в свою «Антологию черного юмора». Этот поэт был интересен и близок сюрреалистам. В своих комментариях Бретон пишет: «Пример Бодлера, таким образом, лишний раз доказывает, что черный юмор исходит из самой глубины человеческого естества, и делать вид, будто этой избирательной предрасположенности не существует, или признавать ее лишь через силу, словно в виде одолжения, значит попросту не замечать собственно бодлеровской гениальности. Эта предрасположенность питает все те эстетические представления, на которых держится его творчество…».
Бретон цитирует «Фейерверки» Бодлера: «Два основных достоинства литературы: сверхъестественность и ирония. Гибрид гротеска и трагедии есть такое же наслаждение для ума, как расстроенный лад – удовольствие для пресыщенного слуха». На примере Бодлера можно понять, что особенность черного юмора – в соединении несоединимого, в непрестанной трансформации смыслов вплоть до их полного обесценивания и уничтожения. В «Цветах Зла» мы находим различные формы максимально интенсивного переживания, причем темы и мотивы часто повторяются. Автор разворачивает свою поэзию вокруг смерти, сна, безумия, которые воплощаются в гротескных образах. Наше внимание сдвигается с того, о чем пишет Бодлер, на то, как он это делает. Темы и определенный набор символов переходят из произведения в произведение, теряя свою значимость, на первый же план выходит стиль, создающий тонкое юмористическое отношение к миру.
О Бодлере писал и Ж. Батай в книге «Литература и Зло». Главным в поэзии Бодлера он считает трансгрессивное желание поэта слиться с миром. В поэзии Бодлера, по Батаю, очень сильно проявляется слияние субъекта с объектом, замещение одного другим. Грани размываются, и то, что мы испытываем при чтении таких стихов – не что иное как жгучее настоящее автора, непосредственное переживание субъектом мира здесь и сейчас. «Повинуясь какому-то первому побуждения, поэзия разрушает пойманные ею объекты, путем разрушения возвращает их к неуловимой текучести существования поэта, – и именно такой ценой надеется вновь отыскать тождество мира и человека. Но отторгая, она в то же время пытается схватить само отторжение». Бодлер отнимает себя у себя самого, и фиксирует эту потерю в своей поэзии. Это не что иное, как «игровое самоубийство», где главным остается художественная фиксация игровой смерти, разворачивающейся вокруг пустоты.
На данном примере мы видим, что столь мрачное содержание поэзии уходит на второй план, а то и вовсе теряется. На первый план выходит форма. Сама форма поэзии становится тем сладостным безграничным духом, который проявляется в субъективной юмористической игре с языком. С. Л. Фокин пишет об особенностях языка Бодлера, характеризуя его как «мышление вспышками, проблесками».. «…Мысль Бодлера свободно переходит с одного дискурсивного регистра на другой, общее эстетическое суждение сменяется беспорядочным перечислением, термин из истории искусств соседствует с яркой метафорой, отстраненное описание заключается автобиографическим признанием, а весь фрагмент итожится только на первый взгляд не подготовленной аналогией, в которой Иисус уподобляется фигуре летающего в пустоте циркового артиста».
Пример Бодлера демонстрирует, каким образом черный юмор воплощается в искусстве. Этот пример приближает нас к пониманию того, как действует механизм черного юмора, из чего он строится черный юмор, на что он нацелен. Выясняется, что он нацелен на разрыв, на совмещение несовместимого, на интенсивность образов и мыслей, которые сливаются в карнавал ощущений, на форму, заставляющую зрителя выйти из привычного, из культурных схем и конструктов вслед за автором, который играет с пустотой и смертью.
III. Стилистические особенности черного юмора в кино
В данной главе теперь будет идти речь о кино, о том, какие возможности оно предоставляет черному юмору. Прежде всего надо сказать, что между юмором и кино существует внутренняя связь. Кино родилось из оптических игрушек вроде кинетоскопа, заставляющих статичные изображения оживать. Техническая природа кинематографа ставит под вопрос представления здравого смысла о реальности. Сама техника кино осмеивает узость нашего мышления. Своим появлением кино позволило человеку расширить взгляд на мир и на самого себя, как некогда это сделали микроскоп или телескоп. Благодаря оптической системе объектива реальность преображается, и теперь мы можем увидеть то, что не может заметить и уловить наш глаз.
Сама техника кино глубоко поэтична, о чем пишут Луи Деллюк и Жан Эпштейн, говоря о фотогении: «Мой глаз дает мне идею формы; пленка тоже содержит идею формы, идею, записанную вне моего сознания, идею без сознания, скрытую, тайную, но чудесную идею; экран дает мне идею идеи, идею моего глаза, извлеченную из идеи объектива, (идею), то есть (столь гибка эта алгебра) идею квадратного корня из идеи». Юмор предполагает ту же многоуровневую рефлексию, позволяющую субъекту разыгрывать комедию в своем сознании. Таким образом, юмористический взгляд на мир и взгляд сквозь оптику кинокамеры становятся разными способами обработки реальности, имеющими в своем распоряжении такие инструменты, как ракурс, план, мизансцену, монтаж и спецэффекты. И комическое, и кинематограф – это всегда уже измененный и более пристальный взгляд на мир.
Черная кинокомедия появилась почти сразу с началом истории кинематографа. Фокусник Мельес в «Четырехголовом человеке» 1898 г. отрывает себе голову одну за другой, ставит их на столик и даже начинает петь с ними хором – чем не черная шутка? Режиссер, он же актер, весело лишает себя важнейшей части тела, но и не думает умирать, смерть не является для него окончательным пределом. Трюк повторяется снова и снова, отделенные головы живут своей жизнью, общаясь друг с другом… Это настоящая игра субъекта с самим собой. Мельес был одним из первых экспериментаторов в кино, иллюзионистом и провокатором, не боявшимся идти на воплощение самых радикальных идей вроде «Путешествия на Луну». Правда, до него такое путешествие уже описал Жюль Верн, но в совсем ином, объективном, реалистическом («научно-фантастическом») ключе.
Возвращаясь к черному юмору, стоит повторить, что черная комедия не может быть ни объективной, ни реалистической. Это сугубо субъективный взгляд, отнюдь не претендующий на правдоподобие. Стилистика черного юмора целиком зависит от автора, от его мироощущения и интенций. Именно по этой причине черная кинокомедия – квинтэссенция авторского кино, делающие максимально яркими присущий автору стиль, его индивидуальность. Поэтому в качестве следующего шага я обращусь к кинематографическому стилю и его структуре. Но каково соотношение стиля и материала в черном киноюморе?
.1 Темы черной кинокомедии
Если в поэзии Бодлер доводит язык до крайности, играя со смыслами обычных слов, за счет чего и создается черный юмор, то с кино дела обстоят иначе, ведь оно не имеет собственного устойчивого словаря. Конечно, за время существования кино образовались некоторые штампы и образы, которые переходят из фильма в фильм и складываются в кинематографическую традицию, но языка как такового, со своим словарем и алфавитом в кино не существует. Так, если Бодлер может использовать в игре слово «смерть», то кинорежиссер этого сделать не может, потому что понятие «смерть» на экране воплощается не в слове, а в образе. Поэтому режиссер выполняет двойную работу – сначала лингвистическую, затем художественную. Сперва он обращается к словесно заданному понятию, а затем оформляет его в виде образа и вносит в контекст других образов.
Уже в самом выбора понятия и, соответственно, его образа-знака проявляется авторская субъективность. Поэтому перед тем, как перейти к стилистическим особенностям черной кинокомедии, стоит определить несколько тем и образов вокруг которых выстраивается ее стилистика. Эта классификация того, что можно назвать материалом черной комедии – того, что составляет ее фабулу. Общий стержень всех тем – телесность, а именно испытание ее предела, эксперименты с ее бесформенностью и хрупкостью.
.1.1 Cмерть
Смерть является излюбленной и самой популярной темой для черной комедии. Именно поэтому-то такую комедию называют «черной». Смерть предстает в комедии во всем разнообразии своих форм. Чем больше смерти, тем лучше. Это может быть как непосредственное отображение умирания, случайная смерть, убийство (реальное или символическое), умертвление животных, катастрофа, война, изображение трупов, использование «черной» символики (женщина с косой, кровь, гроб, кладбище и прочее), сожжение, пытки, насилие с летальным исходом, жертвоприношение, самоубийство, расчленение, телесное уродование, кастрация, зомби, каннибализм, некрофилия, фигура дьявола, сатанизм и т.д.- все варианты перечислить невозможно.
Одним из примеров служат фильмы кинокомпании “Troma Entertainment”, такие как «Беспредельный террор» (1999), где убийства и насилие заключены в яркую гротескную форму. (См. Приложение, рис. 1) Оторванные конечности выглядят здесь подчеркнуто искусственно, кишки – выкрашенные сосиски, глаза вылезают из орбит… Атмосфера фильма при этом вполне беззаботная, и все вместе выглядит как откровенный треш. В фильме Р. Бельво «Человек кусает собаку» (1992) мы попадаем в мир преступника, наблюдаем, как он убивает старушек, грабит, бесчинствует. Но смотрим мы на это глазами героя-психопата, а имитация документального кино максимально приближает его к нам.
В фильме Ф. Капры «Мышьяк и старые кружева» (1944) комедия разворачивается вокруг нескольких трупов, а взаимоотношения героев совершенно абсурдны. Такова и черная кинокомедия К. Морриса «Четыре льва» (2010), рассказывающая об исламистких экстремистах, которые пытаясь совершить терракт, постоянно наталкиваются на препятствия, включая собственную глупость, а один из героев и вовсе подрывает сам себя, не нанося другим никакого урона (та же тема в ином преломлении использована в фильме О. Иоселиани 1984 г. «Фавориты луны»).
В фильме «Корпорация “Святые моторы” Л. Каракса (2012) зрителю в метафорической форме демонстрируют смерть личности. У главного героя очень странная профессия: он перевоплощается (не метафорически, а буквально) в разных людей, проживая несколько жизней за один день. Он меняет роли и образы как маски: попрошайка, городской сумасшедший, умирающий дедушка, любящий отец… Все это показано с полным правдоподобием. В сцене убийства герой-убийца после содеянного придает жертве с помощью грима свой собственный облик вплоть до шрамов, а затем получает удар ножом и падает на пол рядом с жертвой. В итоге мы видим двух истекающих кровью близнецов. Перед нами зримое воплощение мысли о том, что в жертвоприношении убийца и жертва переживают одно и то же. (См. Приложение, рис. 2)
Другим примером игры со смертью является фильм Г. Ноэ «Вход в пустоту» (2009), где режиссер с помощью аудиовизуальных приемов заставляет зрителя переживать смерть. Смерть сакральна, мы ощущаем ее легкое прикосновение, ее леденящее дыхание. Художественная форма становится здесь способом справиться со смертью, взглянув на нее с эстетической стороны. Вопрос о том, является ли смерть абсолютным пределом и есть ли что-то после нее, будоражит сознание, позволяя автору экспериментировать над нашей чувственностью.
Представление о беспредельности цикла смертей и рождений возвращает нас к архаическому метафоричному сознанию, где конец – лишь новое начало. Согласно О. М. Фрейденберг, все главные ритуалы либо сопровождались жертвоприношением, либо имитировали его, разыгрывая его в танце и театрализованном действии. Об этом писал и Ж. Батай: «В жертвоприношении жертва отождествляет себя с животным, сражаемым смертью. Таким образом, жертва умирает, видя собственное умирания, и даже некоторым образом по своей воле, единодушно с жертвенным клинком. Но ведь это комедия!» Тема смерти – последнего рубежа нашей телесности – оказывается в полном смысле слова трангрессивной.
.1.2 Cекс
Секса в черной комедии больше чем достаточно. Но в данном контексте уместнее говорить не столько о сексе, сколько об эротизме, способном распространятся на всю ткань фильма. В кино любая реальность становится выразительнее, объектив увеличивает эротизм, приоткрывая нам его самые неожиданные детали. Образность секса ставит перед режиссером трудную задачу, потому что, будучи изображен слишком буквально, секс неизбежно теряет эстетическую притягательность и превращается в порнографию. Изобретательность автора здесь играет решающую роль. Цель – наиболее красочно и при этом метафорично показать эротическое желание, а его можно отобразить далеко не только непосредственным показом полового акта. Нам могут не показать вообще ничего конкретного, как например в фильме К. Рассела «Последний танец Саломеи» (1987), где самым эротичным элементом является танец. Становясь кульминационной точкой сюжета, танец обнажает перед нами демонизирующий элемент желания, как абсолютного забвения всего. Фильм тревожит насыщенными яркими цветами, избыточными деталями, пышностью декораций, создавая предельно чувственные образы.
В ярко-красных, желтых и голубых тонах выполнен фильм С. Цукермана «Жидкое небо» (1982), где тема секса переплетается с темами наркотиков и инопланетян. Главная героиня Маргарет абсолютно холодна, но ее облик эротичен: геометрический макияж, вычурная яркая одежда, растрепанные белые волосы. (См. Приложение, рис. 3)Эротизм разливается по всей ткани фильма в виде неоновых вывесок, освещения, вспышек, создавая уникальный, оторванный от реальности мир произведения.
«Cладкий фильм» Д. Макавеева (1974) пронизан фонтанирующей эротичностью. Изобилие цвета, блеск и сияние, детальность интерьеров, причудливые наряды, обнаженные тела и даже позолоченный член – все это переплетается в пространстве фильма. Морячок «Потемкин» валяется в сахаре, героиня с восторгом разбивает яйца о свою голову, размазывает массу, купается в шоколаде, а в массовых сценах трапезы и веселья коллектив превращается в единое тело. Особую роль играют вода и прочие жидкости – действие прерывается кадрами водопада, героиня на протяжении всего фильма плывет по реке на собственном корабле, события часто развиваются у воды, много сцен купания, а так же мочеиспускания, питья, полоскания рта и т.д.. Секс становится поэтичным посредством метафор, гипербол, гротеска, – черная комедия базируется на искажении.
Эта эстетика похожа на «гротескный реализм» Бахтина. Гротескное тело «никогда не готово, не завершено: оно всегда строится, творится и само строит и творит другое тело; кроме того, тело это поглощает мир и само поглощается миром». Поэтому, как мы выяснили, в кино сексуальными могут быть не только актеры; эротизм режиссера проявляется в мизансценах и художественном оформлении, в неожиданных, иногда гротескных сопоставлениях.
Фильм «Розовый фламинго» Дж. Уотерса (1972) изображает мир извращенной телесности. Образ главного героя – крупного, вычурно загримированного трансвестита – одновременно сладостен и отвратителен. (См. Приложение, рис. 4) Его слабоумная мать, неспособная передвигаться из-за ожирения, сидит в детском вольере и ждет разносчика яиц. Любовники с красными и зелеными волосами лижут друг другу ступни и торгуют детьми, родившимися в результате сексуального насилия. Все герои и детали этого фильма составляют одно целое. Хотя в сюжете присутствует конфликт, все герои воплощают в сущности одно и то же – гротескную сексуальность, непомерное желание. «Гротескные образы строят, в сущности, двутелое тело. В бесконечной цепи телесной жизни они фиксируют те части, где одно звено заходит за другое, где жизнь одного тела рождается из смерти другого – старого. Наконец, отметим, что Гротескное тело космично и универсально: в нем подчеркиваются общие для всего космоса стихии – земля, вода, огонь, воздух…».
Стихии, природные явления, растения, животные, ландшафты, городские пейзажи становятся важными элементами кинокомедии. Эротизм дает кинематографу огромное пространство для фантазии, эксперимента с телесностью зрителя и телом-формой фильма.
.1.3 Еда
Вокруг темы еды разворачивается множество черных комедий. В фильме Л. Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии» (1972) герои весь фильм не могут поесть, встречая те или иные препятствия, неожиданно просыпаясь или умирая.
Тема застолья – любимая тема представителей чехословацкой Новой Волны. Героини «Маргариток» В. Хитиловой (1966) постоянно едят яблоки, огурцы, торты, мясо, обманывают мужчин ради ужина в ресторане, танцуют, опьяненные пивом. (См. Приложение, рис. 5) За обеденным столом разворачивается действие и в фильме «О торжестве и гостях» Я. Немеца (1966). В фильме «Конец священника» Э. Шорма (1968) чревоугодие и пьянство вплетены в повествование и даже священник попадает в аварию, вкусив крови Христа. Чехословацкая Новая Волна любит крупные планы жующих ртов, праздных лиц с их мимическими складками, крупных форм, больших столов, изысканных блюд. Еда – метафора избытка жизни, страсти, но и смерти. Изобилие отображается не только в еде, но и в роскошных убранствах гостиных, праздничных столах, элементах интерьера, гриме и одежде актеров.
Прекрасным примером служит «Большая жратва» М. Феррери (1973), где главные герои поставили себе цель умереть от обжорства. Они постоянно едят, толкуют о еде как гурманы, готовят пищу, пьют. Все это имеет оборотную сторону – красоток рвет, лица героев покрываются сыпью, ткань фильма разрывается непристойными звуками, нечистоты из сломанного унитаза заливают ванную… Избыток во всем. Пышность интерьеров не знает границ – расписные шкафы, огромные кровати, черный шелк, резные зеркала, золото, узорчатые шторы, огромные торшеры, скульптуры и фонтанирующий дерьмом унитаз. В конце концов герои пресыщаются до смерти и зрительский взор также пресыщается увиденным.
Крайняя степень обжорства представлена в фильме Д. Пальфи «Таксидермия» (2006). В состязании обжор соперники – огромные круглощекие мужчины со свисающими животами и грудями быстро черпают суп ложками, забрызгивая им лицо и грудь. Затем всех участников рвет в общую большую бочку. (См. Приложение, рис. 6) Нам в круговой панораме показывают, как участники извергают из себя фонтаны непереваренной еды. Во втором раунде соперники едят непонятную массу, похожую на холодец. В конце концов у главного героя сводит челюсть, после чего он падает и теряет сознание.
3.1.4 Безумие и наркотическое опьянение
Безумие, известное в кино со времен экспрессионизма – «Кабинет доктора Калигари» Р. Вине (1920), «Доктор Мабузе – игрок» Ф. Ланга (1922) – еще одна излюбленная тема черной комедии. Показывая измененное сознание, черная комедия позволяет нам встать на точку зрения маньяка, убийцы, преступника, наркомана или психопата. Cледуя за героем, мы не только видим его со стороны, но и становимся на его точку зрения. Так, например, в фильме М. Сатрапи «Голоса» (2014) нам показывают длинные сцены, где с помощью компьютерной графики герой, отказавшись принимать прописанные ему таблетки, разговаривает с псом, котом и отрубленной головой. (См. Приложение, рис. 7)
В этом контексте можно говорить о теории «несобственно-прямой субъективности» П. Пазолини, о которой подробный разговор пойдет в следующей части. Безумие героя в этом случае становится фоном для стилистических экспериментов самого автора, отображающего свое собственное представление о мире.
В фильме «Просветления Уайта» Д. Мерфи (2009) мы с головой погружаемся в безумие. История помешательства героя начинается с детства, когда он страдал токсикоманией. Выйдя из психиатрической больницы, герой становится танцором, разъезжает по стране. Но безумие в конце концов настигает его. Пройдя полосу извращенности и насилия, он заканчивает жизнь отшельником в лесу, посвятив жизнь Богу. Несмотря на явное безумие героя, мы не можем сказать, что мир, его окружающий, адекватнее его самого. Иногда именно герой кажется святым в мире грязи и порока. В мире безумия теряются смыслы, стираются границы. В фильме «Грязь» Д. Бейрда (2013) полицейский – алкоголик и наркоман, одержимый сексом – теряется в своей галлюцинаторной реальности. Сон и явь смешиваются у него в голове, он совершает безумные поступки, скатываясь на дно жизни.
В фильме «Сжигатель трупов» Ю. Герца (1968) хозяин крематория настолько углубляется в философию смерти и буддизм, что теряется в мире своих грез. Он убивает членов своей семьи, дабы освободить их от страданий, которые принесет нашествие нацистов. Смерть для него – целительное спасение. Любовь и смерть смешиваются в его сознании. Его бредовое зрение распространяется на весь мир фильма, погружая зрителя в галлюцинаторное состояние безысходного, но прекрасного ужаса.
Отсутствие смысла, логики, порядка заставляет зрителя смотреть черную комедию иначе, чем обычный фильм. Мастерство аудиовизуальной композиции заставляет наслаждаться ею как музыкой, позабыв обо всем. Своего рода «зависанием во времени-пространстве» становится фильм «Поле в Англии» Б. Уитли (2013), где сбежавшие с поля боя трое мужчин попадают в странное приключение. Они встречают алхимика О’ Нила, который кормит их отваром из галлюциногенных грибов. Фильм насыщен замедленными съемками, музыкой, движениями камеры, компьютерной графикой и т.д., благодаря чему реальность предстает перед нами «с другой стороны».
.2 Форма черной кинокомедии
Определив основные темы черной кинокомедии, мы можем перейти к ее стилю, который облекает данные темы в особую форму, искажая наши представления о них. В этом контексте уместно будет обратиться к статье П. Пазолини «Поэтическое кино». Параллели между черным юмором в кино и «черной» поэзией мы уже рассматривали на примере сюрреализма и Бодлера. Пазолини же использует в качестве примеров фильмы Бертолуччи, Антониони и Годара. Анализируя их технику, он вводит понятие «несобственно-прямая субъективность», о котором уже упоминалось выше. По мнению Пазолини, в такой субъективности и проявляется авторский стиль. Так, Пазолини находит в технике съемки «Красной пустыни» Антониони «собственное, бредово-эстетское ви’дение» режиссера. Оно проявляется в монтажных склейках разной крупности одной сцены и «навязчивых кадрах». Такими способами Антониони передает неуравновешенность героини, что на самом деле соответствует его собственному состоянию. Это Пазолини и называет несобственно прямой субъективностью. В ней, по его мнению, и заключается настоящая поэзия кино – в игре с самой формой кинематографа, в изменении фокусного расстояние при съемках одного и того же лица, в движении ручной камеры, наездах, экспрессивном монтаже, длительной статичности, ритмичности монтажных склеек… Все это придает новый смысл тому, что изображается, передает все оттенки ощущений, запланированных автором.
«Несобственно прямая субъективность» – форма выражения ощущений и переживаний, через которую, по мнению Пазолини, автор проникает в фильм. Она становится инструментом, с помощью которого проявляется стиль, форма, в которую автор облекает названные темы, и через которое он может передать свой внутренний опыт. Мне кажется, именно в этом направлении следует двигаться в попытке определить особенности киноязыка черной кинокомедии. черный юмор кино фильм
Я продемонстрирую стилистику черного юмора в кино на классическом раннем примере – фильме Рене Клера «Антракт» (1924). «Антракт» – один из экспериментов сюрреалистического кино, а сюрреализм, как мы выяснили, тесно связан с черным юмором. Этот фильм не имеет четкой фабулы, нам не рассказывается какая-либо связная история – нам просто демонстрируются возможности кинематографа. Нарратив в этом фильме постоянно перебивается чисто игровыми моментами, например, совмещенными кадрами крыш городских домов с разных ракурсов. Игра этих кадров создает абстрактные формы. Играющие в шахматы Марсель Дюшан и Ман Рэй монтируются с надувающимися шариками с нарисованными лицами, съемками города, танцующей балерины снятой снизу, складками ее юбки, похожими то ли на цветок, то ли на насекомое. Происходит постоянная игра со светом, изображение погружается во мрак, затем мы видим лишь силуэты, за ними рябь воды, боксерские перчатки, геометрические фигуры, бородатую балерину – все вместе превращается в карнавал случайных образов. Перед нами не сюжет в привычном смысле, образы конфликтуют друг с другом и зритель постоянно ощущает этот контраст.
То, что мы видим в первой части фильма, сложно артикулировать – все противоречит здравому смыслу и исключает всякую попытку понять происходящее. Более содержательной могла бы показаться вторая часть фильма, изображающая похоронную процессию. Но и здесь зрителю не дают возможности осмыслить происходящее. Наши ожидания постоянно обманываются. Катафалк везет верблюд, а участники процессии прыжками следуют за виновником торжества. Далее похороны превращаются в гонку. Катафалк мчится по улицам, колеса бешено вращаются. Кроны деревьев проносятся над нами. Друг за другом бегут люди. По дороге едут велосипедисты. Одна за другой (4 склейки) едут машины по дороге. Проносится небо и деревья, ракурс искажен. Едут машины. Под музыку Эрика Сати несутся люди, и мы мчимся, обгоняя их. Машины. Множество велосипедистов. Велосипедные колеса мелькают перед нами. Летит самолет в небе. Плывет пароход. Инвалид едет на тележке, потом вскакивает с нее и бежит. Следующие один за другим кадры заключают в себе движения в одном направлении. Колеса вращаются. Озеро проносится вместе со стволами деревьев. Проносятся здания и заборы. Дорога снята из окна мчащейся машины. Мы проносимся мимо человека у забора. Автомобили. Камера наезжает на ограждение. Проносятся ландшафты. Колеса вращаются. Мультиэкспозиция – совмещение двух ракурсов дороги в одном кадре. Совмещенные кадры бегущих людей, снятых спереди и сверху, и снятых со спины снизу. Четыре кадра подряд движущихся ландшафтов. Съемка с вагонетки на американский горках. Ландшафты. Вагонетка поворачивается по отгороженным забором рельсам – и снова рушится вниз. Проносятся деревья. Дома. Бегущие ноги крупным планом. Cнова ландшафты. Крыши. Кадры начинают совмещаться. Рельсы американских горок пытаются запутать нас своим движением. Крупный план мелькающей дороги. Перевернутый кадр рельсов. Вагонетка устремляется прямо в небо. Пять перевернутых кадров дороги с разных ракурсов. Катафалк. Кроны деревьев. Дороги. Образы сменяются так быстро, что мы не успеваем следить за ними.
Мы едем в безумной вагонетке, которая мчится непонятно куда, автомобильные дороги перекрещиваются. несутся ноги, торопливо передвигаются руки. Музыка набирает темп. Скорость пронизывает все образы представленные в монтаже, беготня, суматоха, гонка. А теперь мы в кресле вагонетки американских горок, поворот, падение, взлет, бегущие ноги, проносящиеся ландшафты, формы, рельсы, все переворачивается вверх дном, ритм музыки и монтажа еще убыстряется, мы не поспеваем за этим движением…
Следует заключить, что игровая форма здесь явно съедает серьезное, на первый взгляд, содержание. Объективно грустное событие – смерть человека – становится веселой беготней, больше рассказывающей нам о движении и ритме, чем о самом событии. Именно на этом конфликте формы и содержания создается «ничто», в которое погружается зритель. Фильм выбивает нас из привычного состояния и влечет за собой, за ритмом, за формой, за самой идеи жизни как погони за смертью. «Антракт» становится визуальной музыкой, построенной на чистой эстетике, на игре с нашими чувствами, на силе кинематографического изображения, ломающего привычные рамки и приводящего нас в состояние смятения.
«Антракт» дает нам прекрасное представление о черном юморе в кино. Попытаемся выделить характерные черты его стилистики.
.2.1 «Головокружение»
Основной прием, который постоянно используется в «Антракте», я назову «головокружением» (“ilinx”). Напомню, что Р. Кайуа назвал так одну из четырех выделенных им категорий игр. Играющий здесь «нарушает стабильность своего восприятия», «впадает в транс или состояние оглушенности, которым резко и властно отменяется внешняя действительность.». Илинкс – лейтмотив почти всего фильма, но меня больше всего интересует сцена погони за мчащимся по дороге катафалком. Главный стилистический прием данных сцен – быстрый и резкий монтаж часто не связанных друг с другом кадров. Все происходит так быстро, что зритель не успевает сосредоточиться на одном образе, а головокружение создается именно невозможностью постичь связное сообщение. Сначала нам показывают, как люди бегут за гробом, но затем это перерастает в абсурдный всеобщий марафон за смертью: бегут женщины, мчатся велосипедисты, пролетают машины, проносятся деревья, мы уже забываем, зачем и куда все бегут. На самом деле данные отрывки нам ничего не говорят, они несут в себе ритм ощущений, но не смысл. Постоянная смена ракурсов разрушает нарратив, монтажные склейки совмещают несовместимые образы, чередуя их на бешеной скорости. Наше внимание переключается со смысла сменяющихся кадров на их ритм. Такая техника выталкивает нас из картины. Ритм создающейся в фильме не просто быстрый – он бешеный и постоянно ломающийся, что уже может вызвать дискомфорт. Вдобавок некоторые куски сняты рапидом. В сочетании с тягучей, вязкой музыкой Сати это создает странное чувство сна, сгусток неоформленных чувств, некий расплывчатый образ.
Такая техника очень похожа на «монтаж аттракционов, как его понимал С.М. Эйзенштейн. Он описывается данный прием как «свободный монтаж произвольно выбранных, самостоятельных (также и вне данной композиции и сюжетной сценки действующих) воздействий (аттракционов), но с точной установкой на определенный конечный тематический эффект – монтаж аттракционов».
В «Антракте» Рене Клер в прямом смысле прокатил нас на вагонетке американских горок, смонтировав это с изображениями бегущих людей, проносящихся мимо дорог и ландшафтов, корабликов, труб, самолета, марафона велосипедистов, машин и самого катафалка, буквально расчленяя действие на ритмы. Аттракцион Эйзенштейна в разрезе театра «подвергает зрителя чувственному или психологическому воздействию, опытно выверенному и математически рассчитанному на определенные эмоциональные потрясения воспринимающего» .
На какое воздействие рассчитан прием «головокружения»? Сбить зрительское восприятие, вывести из равновесия, исказить нормальные временные и пространственные установки. Воздается головокружение в самом прямом смысле слова, для рассудка не остается места и зритель переходит на другой уровень восприятия – на уровень чувств и созерцания форм. Таким образом, единственная задача «головокружения» – сбить зрителя с толку, создать у него ощущение пустоты. Сходным образом, монтаж аттракционов характеризуется как «полное отсутствие пространственно-временной структуры, превращающее постановку в утомительный для восприятия “залп”, “пулемет”»..
Ракурсы съемки в «Антракте» быстро меняются вплоть до переворачивания изображения, которое в результате становится на миг похожим на абстрактную живопись. Интересно что Эйзенштейн называл теорию Монтажа аттракционов «кино-кубизмом», то есть попыткой «адаптировать приемы авангардной живописи в режиссуре».
В «головокружении» смысл создается лишь на стыке случайных изображений. Восприятие расщепляется, дробится. Подобный прием мы можем увидеть и в фильме «Гуммо» Х. Корина (1997), где автор вcтавляет в фильм сцены, снятые на VHS камеру, где свойства изображения усиливают эффект илинкса от искаженной реальности. (См. Приложение, рис. 8) Корин деформирует документальные съемки жителей полуразрушенного города, нарезая случайные сцены и монтируя их. Добавленная к этому эстетика пленки усиливает эффект, часто изображаемое настолько теряет свое очертание, что действительно похож на живопись.
Попробую описать одну из таких сцен на 49-й минуте фильма. Нам показывают зубы, снятые крупным планом, а дальше – четыре монтажные склейки разной крупности, где парень на велосипеде поворачивает голову. Действие расчленяется, ручная камера создает дополнительное нервное движение. Три кадра разной крупности с изображением сатанинского божества Бафомета, мраморная скульптура святого, бегущий ребенок, маленький мальчик с автоматом целится в небо, белокурый малыш в памперсах смотрит на нас. Корин членит реальность, показывая ее с иной стороны, совмещая случайные ее куски. Эффект «головокружения» создается не с помощью самих образов, а на стыке между ними. Любовь к такой эстетики проявляется во всех фильмах Корина, и съемка VHS камерой усиливает эффект. То же самое мы видим и в его ленте «Осленок Джулиен» (1999). В его «Отвязных каникулах» (2012) сцена буйной вечеринки снята двумя камерами – ручной видеокамерой, которой снимают друг друга участники действия, и «объективной», которой снят весь фильм. Монтаж очень быстрый и резкий, а в отдельных кадрах использован эффект искажения-смазывания, например когда девушки целуются и нюхают кокаин, их тела как бы сплетаются, очертания лиц смазываются, любое движение оставляет шлейф. Тем самым толпа превращается в одно целое.
.2.2 Ритм и музыка
«Антракт» имеет строго организованную ритмичность, ведущую за собой зрителя на протяжении всей картины, подчиняя его. Уже на этом уровне режиссер ставит нас в определенные условия восприятия, которым мы не можем сопротивляться. Комическому искусству всегда соответствовал быстрый темп, шутка смешна, когда мгновенна. Поэтому непременным техническим условием, создающим стилистику черного юмора, является быстрый и ритмичный монтаж. Сцена погони, как я уже говорила, не просто показывает непрестанный бег, она подхватывает и нас. Кадры как бы случайно проносятся у нас перед глазами, быстрый монтаж отстраняет нас от действия, отключая возможность сопереживания. Это само по себе создает комический эффект, искажающий восприятие.
«Антракт» воплощает идеи ритма и движения, но не только скоростью монтажных склеек, но и ритмом внутреннего пространства монтажного куска. З. Кракауэр пишет об этой авангардной технике: «Можно с полным основанием утверждать, что, когда интерес режиссера сосредоточен исключительно на монтажных ритмах, это приводит не только к смысловому опустошению материала реальной жизни, использованного в фильме, но и к дальнейшему отходу от реализма к абстрактности. Об этом свидетельствует характерное для “авангардистских” фильмов этого типа обилие кадров видоизмененной реальности, в которых реальные предметы сняты так, что они превращаются в абстрактные рисунки ».
В черной кинокомедии форма зачастую «съедает» содержание. Абстрактные игры с материалом создают именно такой эффект – они сбивают зрителя с привычного способа восприятия. Ритм как таковой выстраивается не только через смену монтажных кусков, но еще и через их внутрикадровые движения и свет. Форма фильма вбирает в себя законы музыкальных композиций. С. М. Эйзенштейн сознательно использовал музыкальные термины в своей теории монтажа. Изображение может «звучать», усиливая наш эмоциональный настрой с помощью фигур, линий, цвета, тона, в целом «любых колебаний» куска. Тональный монтаж Эйзенштейна выстраивается по «эмоциональному звучанию куска», внутреннее наполнение которого определяет «общий тон куска».
Так, в фильме «Маргаритки» В. Хитиловой cцены порой превращаются в своего рода визуальные мелодии. На 13-й минуте фильма мы видим удаляющуюся дорогу, снятую из последнего вагона поезда. Рельсы в быстром движении изгибаются и распадаются на цветной спектр, а зритель имеет возможность предаться музыкальному ритму разноцветных линий. Далее следует сцена, где главные героини напиваются в баре. Вся сцена построена на игре цвета, ритма, музыки. По мере того, как девушки пьянеют, к громкой музыке и женскому пению присоединяются крики ликующей толпы на стадионе, что усиливает эффект. Так же ритмично вслед за скоростью монтажных склеек, начинают изменяться цвета самих кусков, из красного в зеленый, затем желтый и синий. Бурлящие пузырьки пива опять рассыпаются в цветовом спектре, крики все громче, девушки ведут себя все развязней, цвета меняются чаще. Еще одна цвето-музыкальная сцена происходит на 28-й минуте фильме, где быстрая игра пианиста на высоких тонах смонтированная на очень быстром ряде энтомологической коллекции. Бабочки разного цвета и размера сменяются, создавая ритм, который подхватывается ритмом музыки. Такие приемы в фильме очень сходны с тем, что сейчас мы можем видим в видеоклипах.
Под экспериментальную музыку, часто переходящую в нойз, сняты фильмы американского авангардиста Р. Керна «Сейчас я тебя ненавижу»(1985) и «Бездомные собаки» (1985). Эта эстетика близка всему американскому авангарду 80-х – 90х гг., где визуальный ряд целиком погружен в музыкальную атмосферу. Такая аудиовизуальная поэзия выталкивает нас из фильма в иной регистр, в другое измерение. Еще один пример – фильм М. Феррери «Диллинджер мертв» (1968), который сопровождается непрерывными музыкальными композициями, придающими обыденным вещам вроде приготовления еды особое настроение. Музыка помещает в сознание героя, в результате чего мы вместе с ним словно не замечаем абсурдности того что он делает. Состояние героя здесь невозможно адекватно передать ни словами, ни зрительными образами.
С.М. Эйзенштейн пишет, что музыка способна «эмоционально досказывать то, что иными средствами невыразимо.» Внутренне присущая музыке эмоциональность заставляет ее вступать с изображением в конфликт. То она подстраивается под ритмику кадров, постепенно ее искажая, а то вовсе берет общее настроение на себя. В этом пространстве режиссер имеет огромный аспект возможностей для игры. Исследователь киномузыки З. Лисса пишет о технических приемах взаимодействия звука и кино, создающих комический эффект. «Чтобы добиться максимального эффекта, комическое в киномузыке имеет в своем распоряжении целый арсенал музыкально-технических средств: резкие контрасты регистров; крайние регистры в отдельных инструментах, что дает разительные звуковые эффекты; комбинация чуждых друг другу регистров и тембров; в мелодике – широкие, кажущиеся беспорядочными скачки и упорное повторение тех же мотивов; в гармонии – раздробленные звучания, генерированные звуки. Эти средства более или менее пригодны и в автономной музыке для выражения комического элемента, гротеска и т. д.; все же в кино они действуют значительно сильнее, ибо комизм музыки в кино как в зрительном, так и в звуковом отношении закрепляется взаимной связью обеих сфер». Звук непосредственно влияет на восприятие изображения, создавая множество вариаций одного решения. Он то становится окраской фона, то целиком изменяет смысл изображения, что зритель не всегда может заметить. Музыкальное сопровождение в черной кинокомедии постоянно играет на контрастах и контрапунктах, то уводя от изображения, то погружая в него.
На контрасте музыки и изображения построено начало фильма «Конец священника» Э. Шорма (1968). Начальные сцены, включающие 21 склейку, длятся две минуты с небольшим. Техника здесь отчасти похожа на «головокружительный» монтаж, о котором я говорила ранее, но в более медленном темпе. Сначала под мелодичную музыку показывается деревенский ландшафт, затем резким звуком врывается плач ребенка. Под ту же музыку нам показывают умерщвление свиньи, и уже здесь проявляется яркий контраст. Потом мы видим голубя, падающий столб, ярмарку, коров. Вступает церковный орган, под звуки которого петух совокупляется с курицей. Все вместе создает ощущение нелепости и диссонанса. Режиссер создает абсурд, совмещая несовместимые фрагменты реальности. Сколько-нибудь внятного сообщения о смысле происходящего мы не получаем, остается лишь идея внутренней несогласованности всего со всем, при этом акцент, казалось бы, сдвинут с техники на тематику. Эффект усиливается полным несоответствием музыки и изображения.
Искажение времени и пространства. Замедленная и убыстренная съемка.
Типичным для кинокомедии приемом являются ускоренная и замедленная съемки. В основе приема – игра с нашими представлениями о движении во времени. Так как зрение нормального человека настроено на принцип постоянства объектов, мы обычно не замечаем их непостоянства, изменения во времени. Техника кино способна концентрировать наше внимание именно на таком изменении. Так, танец бородатой балерины в «Антракте», снятый рапидом, заставляет образ менять очертания. Складки юбки повисают в воздухе, создавая причудливые формы, напоминающие то ли цветок, то ли насекомое. Сдвиг естественного темпа танца меняет наше представление о нем. Не менее эффектно убыстренное воспроизведение фильма. Например толпа, изображенная таким способом, будет комична, потому что такой прием вскрывает механичность движения, заставляя вспомнить о теории А. Бергсона.
Сильный эффект производят кадры, воспроизведенные в реверсе. При этом обычное для нас действие вроде снимания футболки становится необычным зрелищем. Такой прием применен в фильме «Счастливый конец» О. Липского (1967), целиком построенном на реверсе. Фильм начинается с того, что отсеченная на гильотине голова прирастает обратно, и герой как ни в чем не бывало сходит с эшафота, рассказывая о собственной казни, как о своем дне рождения. Наиболее впечатляет сцена, где герой в ванной собирает части женского тела, словно конструктор, делая из них свою жену. Он достает из чемодана голень и приклеивает к ней бедро. Хороша и сцена еды, где флиртующие мужчина и женщина изящно достают изо ртов куски печенья и складывают их на тарелочку. Тот же прием мы видим в фильме «Экс-ударник» К. Мортье (2007), где трое музыкантов-неудачников выходят из здания задом наперед, впрыгивают на велосипеды и едут на них все так же в реверсе.помощью иллюзии кино можно перемещаться и в пространстве фильма. Об этом нам известно еще со времен географического эксперимента Л. Кулешова, где с помощью строго выверенного монтажа и движения внутри кадра создаются абсолютно нереальные условия встречи Хохловой и Оболенского. Такой прием мы встречаем и в кинокомедии, где не только разрушается представление о пространстве, но и создается игра смыслов. Таким примером являются переходы в фильме «Сжигатель трупов» Ю. Герца. На 39-й минуте мы видим героя в комнате у проститутки. Он снимает штаны, смотрит в зеркало, а затем берет энтомологическую коллекцию и вешает ее на стену. Камера отдаляется – и наш герой спускается со стула, надевает пиджак уже у себя дома, разговаривая с женой. Следующий пример на 59-й минуте фильме: герой сидит за столом в синагоге и наслаждается пением евреев. Камера наезжает на его затылок, задний фон размывается и вращается – и вот герой уже в доме своего друга-нациста и его жены. Те выведывают у него что-то, следующим кадром мы видим крупный план отвечающего героя, но только теперь бесед происходит на вечеринке в обществе множества женщин легкого поведения. Черный юмор здесь состоит в монтаже кусков, разделенных во времени и имеющих противоположный смысл: проститутка- жена, еврей-нацист. Тем самым герой приобретает новую характеристику, как человек, которому чужды всякие рамки и нормы.
Многократная экспозиция и спецэффекты
В «Антракте» часто используется двойная и тройная экспозиции, создающая в синтезе нескольких кадров новое изображение. Удачной визуальной шуткой является кадр, где чья-то макушка совмещена с горящими спичками. Огонь охватывает волосы – и жертва чешет место пожара. Подобный визуальный юмор построен на оптической иллюзии. Техника кино предоставляет огромное количество возможностей удивить наш глаз, играя с представлениями рассудка. Мы понимаем, что спички вряд ли горят прямо на голове, это лишь мультиэкспозиция – но когда рука начинает чесать горящее место, нам становится смешно. Кино постоянно меняет наши представление о возможном. Часто двойная экспозиция завязывается на совмещении двух кадров, каждый из которых отменяет значение другого. В результате возникает новый, не существующий в природе образ.
Такую игру мы видим в короткометражном фильме К. Энгера «Пробуждения моего демонического брата» (1969). Совмещениями он создает новые формы – аквариум с рыбкой, наложенный на зрачок глаза; слияние нескольких тел в некоего монстра; голова мальчика альбиноса, включенная в татуировку, и т.д.. Весь фильм – пример аудио-визуальной поэзии без фабулы. Нас захватывает водоворот образов; мультиэкспозиция пробуждает наше воображение с помощью необычных форм и цветовых сочетаний, порой вызывающих головокружение. (См. Приложение, рис. 9)
К числу важных приемов черной комедии относятся спецэффекты, с помощью которых режиссер воплощает свои фантазии. Действие фильма «Побег из завтра» Р. Мура (2013) полностью происходит в Диснейленде, куда приезжает семья, чтобы отдохнуть и развлечься. Но отец семейства начинает сходить с ума в этом царстве живых игрушек и вагонеток. В конце концов у него начинаются яркие галлюцинации, выраженные посредством спецэффектов. (См. Приложение, рис. 10)Особенное, искаженное восприятие героя передано через намеренное усиление с помощью спецэффектов деталей образа, что создает сильное эмоциональное воздействие. В «Поле в Англии» Б. Уитли (2013) галлюцинирующий герой видит вместо солнца на небе черную дыру.
.2.4 Техника создания образа и техника острот
Этот прием в большей мере направлен на то, что происходит во внутреннем мире одного кадра, где присутствуют герои со своими характерными деталями грима и одежды, интерьеры, пейзажи, искусственно созданные ландшафты, всевозможные артефакты, элементы декораций, бутафория. Все это превращается на экране в знак – в своего рода фразу, которая несет смысл в контексте фильма.
З. Фрейд в своей книге «Остроумие и его отношение к бессознательному» выделяет несколько техник создания острот. Хотя Фрейд использовал в своем исследовании словесный материал, подобная техника используется и в кино. Следует выделить ее специфику в применении к аудиовизуальному материалу. Фрейд перечисляет называет основные приемы: сгущение, замещение, сдвиг, изображение путем противоположности, косвенное сравнение, ошибки мышления и пр. Часто эти приемы используются вместе.
Например, при сгущении два слова, иногда сходных по звучанию, сливаются в одно. В кино сходная техника проявляться в гротескных образах, каждый из которых становится мыслью. Автор словно надевает на зрителя очки, дающие возможность субъективного видения. Работа автора в таком случае напоминает работу карикатуриста – элементы изначального образа доводятся до гротеска и абсурда.
Отличные примеры такого приема мы находим у А. Ходоровски. Фильм «Святая гора» (1973) полон яркими гротескными образами, каждый из которых несет в себе и эмоциональный заряд, и мысль. Так, сцена начинающаяся на 6-й с половиной минуте имеет 20 монтажных склеек, совмещающих различные точки зрения, движения и масштабы. Здесь многое построено на гиперболе – грузовики полны трупов, десятки распятых животных, десятки женщин, гладящих окровавленное белье. Невинные жертвы истекают цветной краской вместо крови, из ран вылетают птицы. Краска и птицы воспринимаются как знаки чистоты и невинности жертв. Напротив, образы власти – это солдаты, лица которых скрыты под противогазами, публичные казни, разряженные интеллектуалы на фоне военного парада. Костюмы придают дополнительное значение всей сцены. (См. Приложение, рис. 11) Противогазы и военная форма – образ обезличенной военной машины. Туристы, весело фотографируясь на фоне казни, выглядят одичавшей толпой (это подчеркнуто звуком), и даже дерзкая демонстрация сексуального желания солдатом девушке-иностранке никого не смущает и становится сюжетом памятной фотографии. Таким образом, весь фрагмент посредством отдельных гиперболизированных образов и их сопоставления заставляет нас взглянуть на машину насилия и безумие СМИ сквозь очки черного юмора. Образы очень сильны и по отдельности. Так, главный герой просыпается на куче распятий, каждое из которых напоминает самого героя. С одной стороны, это можно в реалистическом ключе (герой мог действительно попасть в такую ситуацию), но с другой стороны это и метафора – герой сопоставляет себя с Иисусом.
Яркие примеры мы находим и в кинолентах Г. Араки, таких как «Поколение игры Doom» (1995) и «Нигде» (1997). Режиссер создает настолько уникальный и органичный мир, что каждая деталь становится смысловым элементом в общей чувственной ткани фильма. Обе ленты повествуют о молодых, свободных и красивых аморалистах, которые существуют в своей собственной реальности. Ведущие темы, иногда совмещенные – секс и насилие. Например в «Поколении игры Doom», герои постоянно ездят в машине и останавливаются в мотелях или на заправках. Очень важную роль играет цвет интерьеров. Один из номеров мотеля включая пол, стены, шторы, кровать, торшер, стол, стул весь выполнен в красном цвете, а телевизор изображает синие помехи. Оформление другой комнаты, снятой на ночь, состоит из черно-белых клеток. (См. Приложение, рис. 12) Поверх розового платья героиня надевает прозрачный плащ. Зажигалки украшены черепами. На чеках в придорожных кафе всегда она и та же сумма – 666. Эстетика фильма создает новые значения. Не только моральные представления героев, но и их представления о времени и пространстве размыты; есть только пульсирующее желание секса или смерти.
В фильме «Нигде», повествующем об истории подростка, все интерьеры выполнены в стиле абстрактных полотен. Это заставляет смотреть на события фильма глазами художника. Тут все искусственно – яркие элементы одежды, цветные волосы, цветное освещение… Такого места не существует на Земле. Образ ирреальности, окрашивающий весь фильм, очень похож на сон. Фрейд отмечает, что выделенные им техники острот соответствуют техникам работы сновидения. «Интересные процессы сгущения с заместительным образованием, которые мы распознали как ядро техники словесного остроумия, указывают нам на образование сновидения, в механизме которого были открыты те же самые процессы. На то же указывают и технические приемы острот по смыслу: сдвиг, ошибки мышления, бессмыслица… Все они без исключения вновь проявляются в технике работы мысли во время сна».
Именно так создается комизм в эпизоде, где один из героев, находящийся под действием наркотиков, приходит домой и обнаруживает родителей, которые сидят у телевизора, а антенна словно рассекает их тела; стены и одежда покрыты клетчатым узором, а сами родители выглядят героями американских рекламных роликов. Они словно загипнотизированы телевизором, лица у них глупые и пустые.
Эти два фильма Г. Араки также используют «зацикленность» сюжета: герои постоянно повторяют одни и те же действия, словно совершают древние ритуалы, призванные обновить время. С другой стороны, это напоминает еще об одном фрейдовском приеме – ошибках мышления. Перед нами поэтические фильмы о смерти и пустоте. Это близо к тому, что Р. Барт называет «открытым смыслом в кино». «Именно потому, что он открывается в бесконечность речи, он может казаться ограниченным по сравнению с аналитической мыслью. Он принадлежит породе словесных игр, буффонад, бессмысленных трюков, он безразличен к моральным и эстетическим категориям (тривиального, пустого, искусственного, подражательного), он пребывает в области карнавального. Вот почему слово "открытый" подходит здесь наилучшим образом».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общие выводы моей работы таковы. В первую очередь через феномен юмора мы вышли на уровень субъективного переживания – специфичного восприятия мира. Удалось найти в этом переживании стремление к невозможному, к трансгресии. В конце первой главы я определяю черный юмор как игровое самоубийство субъекта. Игровое самоубийство становится тем опытом автора, который он способен образно представить, оставаясь в рамках комического. Это положение подкрепляется сюрреалистическими теориями черного юмора, в первую очередь теорией А. Бретона. Взяв в качестве примера одного автора из бретоновской «Антологии черного юмора» – Шарля Бодлера – я демонстрирую механизм работы черного юмора со словом, доводящий язык до предела. Мы увидели некоторые характерные черты: обращение к бессознательному, к темам сна, смерти, грез. Они выражаются через гротескные, доведенные до абсурда образы, созданные свободной игрой фантазии. Первым примером черной кинокомедии был сюрреалистический «Антракт» Рене Клера. После него я просмотрела более 40 фильмов, с помощью которых мне удалось как выделить основные темы черной кинокомедии и выявить особенности их передачи. Темы секса, смерти, еды и безумия встречаются во всех черных кинокомедиях, иногда переплетаясь. Они вновь нас к древнему праздника и карнавалу, к метафоричному мышлению представителей архаических культур. Секс, еда и смерть являлись элементами понимания мира как образами бесконечного коллективного тела, Используя эти темы, кинематограф проводит эксперимент над зрительской телесностью, испытывая пределы нашего воображения, вкуса, моральных и эстетических суждений. Часто шокирующие темы фильма облекаются в резкую и агрессивную форму, иногда приводя к чистой игре с нашим восприятием. Поэтому черная комедия часто не смешна; она «странная», она пытается смутить зрителя, подталкивая его к рефлексии о собственном восприятии. Конечно, так происходит не всегда, и каждый фильм должен найти своего зрителя. Я надеюсь, тем не менее, что мне удалось показать средства, с помощью которых стилистика черной кинокомедии включает в себя трансгрессивный элемент. Сверхреальность такого фильма бросает вызов настоящей реальности. Таким образом, эстетика черного юмора в кино – интересные и перспективный объект исследования, как в качестве явления истории кино, так и с философско-антропологической точки зрения.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. – М.: Искусство, 1981.
Кант И. Критика способности суждения. – М.: Искусство, 1994.
Хейзинга Й. Homo ludens; Cтатьи по истории культуры. – М.: Прогресс.
М. Бахтин. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Ренессанса. – М.: Художественная литература, 1990.
О. М. Фрейденберг. Поэтика сюжета и жанра. – М.: Лабиринт, 1997.
Р. Кайуа. Игры и люди. Статьи и эссе по социологии культуры. – М.: ОГИ, 2007.
Бергсон А. Смех. М.: Искусство, 1992.
И. А. Морозов . Переживание смерти в игре, как аспект становления личности// Категории жизни и смерти в славянской культуре: сб. статей. – М.: Институт славяноведения РАН, 2008
Батай Ж. Внутренний опыт. – Спб.: Аксиома, Мифрил, 1997.
Арто А. Театр и его двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра – Спб.; М.: Cимпозиум, 2000.
Называть вещи своими именами: Прогр. Выступления западю- европ. лит. XX в. – М.: Прогресс, 1986.
Гальцова Е. Д. Сюрреализм и театр. К вопросу о театральной эстетике французского сюрреализма. – М.: РГГУ, 2012 .
Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм. Пер. с франц. С. Дубина. – М.: НЛО, 2002,
Бретон А. Антология черного юмора // Сост., комментарии, вступ. статья С. Дубина. – М.: Carte Blanche, 1999.
Батай Ж. Литература и Зло / Пер. c фр. и коммент. Н. В. Бутман и Е. Г. Домогацкой. – М.: МГУ, 1994.
Фокин С. Л. Пассажи: Этюды о Бодлере. – Cпб.: Machina, 2011.
Из истории французской киномысли: Немое кино 1911-1933 гг. Сост. М.Б.Ямпольский. Пер. с фр. /Предисл. С. Юткевича. – М.: Искусство, 1988.
Пазолини П.П. Поэтическое кино // Строение фильма. Отв.ред. К.Разлогов. М., 1984.
Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. – СПб.: Мифрил, 1994.
Эйзенштейн С. М. – Избранные произведения. Т. 2 – М.: Искусство, 1964
С. М. Эйзенштейн: pro et contra, антология. – 2-е изд., испр. / Cост., коммент. Н. С. Скороход, О. А. Ковалова, С. А. Семенчук – СПб.: РХГА, 2015.
Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности – М.: Искусство, 1974.
Эйзенштейн С. М. – Избранные произведения. Т. 3 – М.: Искусство, 1964
Лисса З. Эстетика киномузыки. – М.: Музыка, 1970.
Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2006.
Ролан Барт. Третий смысл. Исследовательские заметки о нескольких фотограммах с. М. Эйзенштейна // Строение фильма, М., 1984.
Фильмография
«Антракт» 1924 год, реж. Рене Клер
«Четырехголовый человек» 1989 год, реж. Жорж Мельес
«Беспредельный террор», 1999, реж. Ллойд Кауфман
«Атомная школа», 1986 год, реж. Ллойд Кауфман
«Человек кусает собаку» 1992 год, реж. Реми Бельво
«Мышьяк и старые кружева», 1944 год, реж. Фрэнк Капра
«Четыре льва», 2010год, реж. Крис Моррис
«Вход в пустоту», 2009 год, реж. Гаспар Ноэ
«Корпорация святые моторы», 2012 год, реж. Леос Каракс
«Последний танец Саломеи», 1988 год, реж. Кен Рассел
«Жидкое небо», 1982 год, реж. Слава Цукерман
«Сладкий фильм», 1974 год, реж. Душан Маковеев
«Розовый фламинго», 1972 год, реж. Джон Уотерс
«Маргаритки», 1966 год, реж. Вера Хитилова
«Конец священника», 1968 год, реж. Эвальд Шорм
«Скромное обаяние буржуазии», 1972 год, реж. Луис Бунюэль
«Большая жратва», 1973 год, реж. Марко Феррери
«Таксидермия», 2006 год, реж. Дьердь Пальфи
«Голоса», 2014 год, реж. Маржан Сатрапи
«Просветление Уайта» , 2009 год, реж. Доминик Мерфи
«Грязь», 2013 год, реж. Джон С. Бейрд
«Сжигатель трупов» ,1968 год, Юрай Герц
«Поле в Англии», 2013 год, реж. Бен Уитли
«Гуммо», 1997 год, реж. Хармони Корин
«Отвязные каникулы» 2012 год, реж. Хармони Корин
«Теперь я тебя ненавижу», 1985 год, реж. Ричард Керн
«Беспризорные псы» 1985 год, реж. Ричард Керн
«Счастливый конец». 1967 год, реж. Ольдржих Липский
«Экс-барабанщик» 2007 год, реж. Коэн Мортье
«Пробуждения моего демонического брата», 1969 год, Кеннет Энгер
«Побег из завтра», 2013 год, реж. Рэнди Мур
«Святая гора», 1973 год, реж. Алехандро Ходоровский
«Крот», 1970 год, реж. Алехандро Ходоровский
«Поколение игры Doom», 1995 год, реж. Грегг Араки
«Нигде», 1997 год, реж. Грегг Араки
ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1 «Беспредельный террор», Ллоид Кауфман

Рис. 2 «Корпорация святые моторы», Леос Каракс

Рис. 3 «Жидкое небо», Слава Цукерман

Рис. 4 «Розовые фламинго», Джон Уотерс

Рис. 5 «Маргаритки», Вера Хитилова

Рис. 6 «Таксидермия»,

Рис. 7 «Голоса», Маржан Сатрапи

Рис. 8 «Гуммо», Хармони Корин

Рис. 9 «Пробуждение моего демонического брата», Кеннет Энгер

Рис. 10 «Побег из завтра» Рэнди Мур

Рис. 11 «Cвятая гора» Алехандро Ходоровский

Рис. 12 «Нигде», Грегг Араки