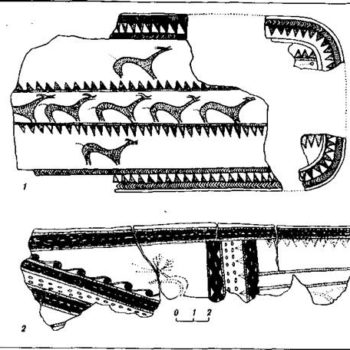- Вид работы: Дипломная (ВКР)
- Предмет: Культурология
- Язык: Русский , Формат файла: MS Word 82,34 Кб
Образ еврея у православного населения Российской империи конца XIX – начала XX вв.
Образ еврея у православного населения Российской империи конца XIX – начала XX вв.
Содержание
Введение
Глава I. Характеристика научно-теоретических проблем имагологии в контексте изучения проблем этнорелигиозной образности
.1 Актуальные проблемы исторической имагологии в контексте развития «новой исторической науки»
.2 Пространство интеллектуальной истории в контексте проблем исторической имагологии
.3 «Свои» и «иные» в контексте позиционирования еврейства
.4 Место церкви в позиционировании образности еврейского населения
Глава II. Основные социальные характеристики и позиционирование российского еврейства
.1 Истоки возникновения «еврейского вопроса» в Российской империи
.2 Конструирование черты оседлости евреев на территории империи
.3 Политико-правовой статус еврейского населения в Российской империи
.4 Характеристика механизмов социальных лифтов для еврейства
Глава III. Структура образности еврейского населения в контексте восприятия социальными категориями Российской империи
.1 Восприятие еврейства управленческой элитой Российской империи в контексте правотворческой деятельности
.2 Образ еврейского населения в творческом дискурсе российской интеллигенции и ее актуализация в повседневно-бытовом контексте
.3 Трансформации традиции «кровавого навета» в восприятии еврейства
.4 «Дело Бейлиса» как социокультурный дискурс позднеимперского периода
Заключение
Библиография
Введение
Актуальность. В настоящее время в российском обществе происходит нарастание социальной напряженности, вызванной последствиями социально- экономического кризиса и кризиса управленческой системы. Это провоцирует всплеск неоднозначного, порою полярно предвзятого отношения к представителям различных этнорелигиозных меньшинств в контексте социокультурных стереотипов прошлых эпох.
В современности возникают прецеденты, апеллирующие к социокультурному наследию российского общества вековой давности, в частности в области пересечения сакрально- мистических и социально-правовых стереотипов .
Более того, в настоящее время, в условиях краха модели европейского мультикультурализма, а также тенденций к формальной архаизации и новому витку мифологизации сознания индивидов в информационном обществе вполне возможно возрождение и трансформация, с учетом социокультурных изменений, прежних этнорелигиозных паттернов.
И к настоящему времени возникает полемика, основанная на «острых рифах» межкультурной коммуникации по вопросам наиболее одиозных сюжетов или персоналий истории православной культуры, как, например, недавно спровоцированный документальным выпуском с вольными трактовками о православном святом Гаврииле Белостокском (канонизированным якобы за «убиение жидами») социальный конфликт .
В рамках теоретико-методологической актуальности уместно указать позицию специалистов в области иудаики, констатирующих недостаточную проработанность определенных сфер изучения образа евреев, их статусного позиционирования и репрезентации в восприятии различных уровней российского позднеимперского общества.
Предмет исследования: ментальное пространство представителей православной конфессии в восприятии образа «другого» в контексте развития этнорелигиозной коммуникации в российском обществе позднеимперской России
Объект исследования: образность еврейского населения сквозь призму социокультурных установок православного населения в условиях трансформации социокультурных паттернов социума Российской империи конца XIX – начала XX столетия.
Цель исследования: провести реконструкцию образности еврейского населения в восприятии представителей православной традиции российского общества позднеимперского периода.
Задачи исследования:
üСформулировать основные теоретико-методологические положения в отношении методов реконструкции социокультурной образности в сфере актуализации образа «другого» определенным типом ментальности;
üРассмотреть проблемное поле ряда понятий исторической имагологии в контексте изучения структуры общественного сознания России позднеимперского периода, в частности такие понятия как «социокультурный образ», «ментальность», «историческая память».
üОхарактеризовать эволюцию и особенности социально- демографических характеристик и политико-правового статуса еврейского населения в Российской империи;
üВыявить основные аспекты в трансформации социокультурных паттернов в отношении еврейского населения в Российской империи позднеимперского периода, а также некоторые их характерные черты на более ранних этапах;
üРассмотреть вопросы «статус-кво», восприятия и самовосприятия представителей кросс конфессиональной коммуникации, а именно «выкрестов» и «субботников».
üПроследить специфику религиозно-мифологической стереотипизации в конструировании «черных легенд» и «кровавого навета» в контексте традиционного богословской православной традиции;
üИзучить и выявить характерные черты инициирования и протекания антисемитских юридических процессов («велижское дело», «саратовское дело», «дело Бейлиса» и др.) сквозь призму ритуально-мистического дискурса;
üОхарактеризовать тенденции к либерализации церковных догматических и обрядово-бытовых аспектов восприятия образности еврейства в начале XX столетия;
üОтметить значение анализа социокультурных стереотипов и установок в восприятии еврейского населения как актуального и востребованного современным социогуманитарным знанием исторического опыта.
Степень изученности темы. Проблемное поле диссертационного исследования включает в себя несколько актуальных научно- исследовательских направлений. К настоящему моменту в наибольшей степени является разработанным изучение образности еврейства скорее в интеллектуально-художественном и повседневно-обыденном, нежели сакрально-мистическом пространстве восприятия российским обществом позднеимперского периода .
Достаточно явно представлено направление, акцентирующее внимание на репрезентации образа евреев в рамках художественного нарратива российской классической литературы второй половины XIX – начала XX столетия .
Наконец, одним из наиболее разработанных проблемных сфер в изучении образности евреев является проблемное поле их образности в представлениях и социокультурных стереотипах населения России на ранних этапах отечественный истории – преимущественно в мифологизированном когнитивном срезе племенных организаций восточных славян и древнерусского социума .
Также, наиболее полно представленным пластом научно-исследовательского творчества в современной иудаике являются труды, освещающие различные аспекты формально-юридического, социально-политического и этноконфессионального статуса евреев в российском обществе позднеимперского периода.
Особое место в научной практике как иудаистов и историков православной культуры, так и у историков права занимают так называемые «ритуальные дела», связанные с воплощением социокультурной легенды «кровавого навета», столь популярной в изучаемый период; отмечено наличие ряда работ в том числе и с позиций методологии современных направлений социогуманитарного цикла.
Одним из недавних направлений, конституирующим изучение образности в кроссконфессиональной коммуникации, является изучение проблемного поля самоидентификации «выкрестов» и «субботников», а также их восприятия в структуре ментальности как православных интеллектуалов, так и рядовых представителей конфессии.
Отдельным полем исследований, к настоящему моменту представленное достаточно большим объемом, но не систематизированным в отдельное структурированное направление изучения, является анализ литературы богословского толка в контексте полемики восприятия еврейского населения и иудейской конфессии .
Значительным пластом, или, вернее, «платформой» научно-исследовательской практики в изучении взаимовосприятия еврейского и русского населения выступает сборник «Свой или чужой? Евреи и славяне глазами друг друга».
Источниковая база. Проблемное поле образности евреев представлено достаточно обширным пластом источников. Возможно выделить ряд источниковых групп, каждая из которых позволяет дополнить целостную картину в реконструкции образа еврейского населения в контексте ментальных установок религиозного традиционализма, и в частности, православной конфессии.
К числу первой группы источников следует отнести письменные источники официального характера в сфере законодательства, а именно указы, законы, предписания местной администрации, касающиеся конституирования фактического статуса и правового набора евреев как в обыденно-повседневной деятельности, так и в области религиозно-культовых отправлений. православный этнорелигиозный церковь еврей
Другой, не менее значимой группой источникового материала выступает документы, связанные со структурированием внутрицерковной идеологии, в частности, предписания и произведения, позиционирующие отношение и официальную позицию православной церкви по отношению к евреям и иудаизму.
Следующей группой источников являются данные юридических процессов и делопроизводства, связанного с расследованием «ритуальных дел» («велижское дело», «тифлисское дело», «дело Бейлиса», пр.) а также материалы периодической печати, освещавшие ход данных процессов, равно как и спровоцированную ими общественную полемику.
Среди письменных источников неофициального характера следует выделить произведения мемуаристики и дневниковых записей, освещавшие как вышеупомянутые юридические процессы, а так и иные сюжеты реакции на постулируемую социокультурную легенду о «кровавом навете» – в частности, описание распространившейся в начале XX столетия в канун православной Пасхи практики антисемитских погромов и расправ.
Также необходимо выделить в качестве исторического источника значительных пласт художественной литературы, ретранслирующей дискурс наиболее одиозных событий, связанных с историей образного восприятия еврейства и соответствующих реальных действий – как сюжетов, основанных на материале «ритуальных процессов», так и мотивов, к примеру, Кишиневского погрома 1903 г.
Особую категорию представляют источники аудиовизуального характера – карикатуры и гротескное изображение евреев, как светского, так и религиозного происхождения.
Методология. В рамках данного исследования используется методологический аппарат таких направлений «новой исторической науки», как историческая имагология, историческая антропология и историческая психология. При этом центральной проблемой апелляции к методам исторической имагологии является адекватная современному историческому знанию исследовательская работа с таким понятием, как «социокультурный образ».
В настоящее время не существует однозначной трактовки и понимания данного термина. В основном, внимание исследователей сконцентрировано на уточнении различных аспектов коммуницирования образности с такими субъектами социогуманитарного цикла, как историческая память, ментальность, мифологическое мышление и др.
Собственно, историческая имагология и призвана сформировать совокупность подходов для решения данной задачи. Вследствие этого данное научное направление представляет собой междисциплинарную отрасль, затрагивающая проблемное поле таких дисциплин, как этнология, историческая психология, культурология, литературоведение и ряд других.
В зарубежной исследовательской практике историческая имагология впервые обрела свое оформление в 50-х гг. XX столетия, в то время как научно-практическое применение в отечественном историческом знании приходиться на 1970-е гг. Огромное значение на складывание методологического аппарата сыграли представители «школы Анналов».
В отношении изучения образности историческая имагология ставит во главу угла проблематику ментальной коммуникации и соотношения таких категорий исторического сознания, как «свой», «чужой», «другой» и пр. При этом в основе формирования образности учитываются как рациональные, так и эмоционально-волевые аспекты выстраивания образной структуры, тем самым провоцируя ее становление как синтетического, сложного и динамичного объекта в рамках эпистемологии восприятия. Усложняющим фактором выступает «наложение» на структуру образа не только прагматичной мифологизации его объективного носителя, но и совокупность личного опыта, мировоззренческих, социокультурных, образовательных и иных доминант сознания личности или группы.
Одной из ключевых проблемных направлений в исторической имагологии последних лет является исследование аспектов визуализации образности «других» в условиях адаптации исследовательских практик «визуального поворота». При этом наиболее востребованным научно- исследовательской проблемным полем является комплекс вопросов, связанный с изучением образа в пространстве межкультурного, и в частности, межконфессионального диалога, а также в условиях развития кроссконфессиональных коммуникаций.
Научная новизна данного исследования состоит в том, что для изучения образности еврейского населения позднеимперского периода используется набор методов исторической имагологии и исторической психологии.
Исследованием предполагается не столько реконструкция определенного образа евреев в восприятии представителей православной традиции, сколько формирование определенного научно-методического пространства, в рамках которого познающий субъект смог бы сконструировать свое видение образности еврейского населения в восприятии православных жителей Российской империи.
Методологический аппарат направлений «новой исторической науки» позволяет на основе пересмотра уже имеющегося источникового и историографического материала осуществить попытку реконструирования ментального пространства человека православной традиции, провести воссоздание мировоззренческих и социокультурных ориентиров.
На основе изучения и актуализации данных представляется возможным получить научно-практический результат в виде своего рода исследовательского «когнитивного полигона», где представляется возможным каждому познающему субъекту реализовывать свой потенциал в выстраивании структуры образа еврея. Помимо этого, адаптация вопросов образности еврейского населения в рамках исторической психологии способствует развитию прикладных приемов в изучении своеобразия психики представителей православной традиции.
Глава I. Характеристика научно-теоретических проблем имагологии в контексте изучения проблем этнорелигиозной образности
1.1 Актуальные проблемы исторической имагологии в контексте развития «новой исторической науки»
В рамках «новой исторической науки» проблемное поле образности элементов прошлого является предметом исторической имагологии. В контексте изучения проблем данного направления уместно говорить о моделировании социокультурного пространства в его рамках, т.е., по сути, историческая имагология тесно связана с проблемным полем исторической реконструкции. В силу специфики предмета исследования историческая имагология представлена достаточно разветвленной системой междисциплинарных связей, апеллируя, помимо исторической реконструкции, к таким отраслям социогуманитарного знания, как историческая и гендерная психология, новая социальная история, новая биография, интеллектуальная история и др.
Историческая имагология, в отличие от интеллектуальной истории, истории идей и ментальностей, работает с такой единицей исторической реальности, как имагема, или «образ». Исследователь Ю.М. Андрейчева, стремясь наиболее полно и емко отразить значение изучения проблем образности в историческом знании, отмечает: Образ – одно из ключевых понятий гуманитарных наук, понимаемое как психическая форма восприятия и отображения реальности в человеческом сознании. В указанной дефиниции уже присутствует бинарная оппозиция «Я» – «Другой», согласно которой «Я» – это субъект, воспринимающий «Другое» – реальность, отличную от «Я». Данная оппозиция служит не только способом постижения «Иного»/«Другого», но коренится в основе нашего самосознания, которое осуществляется через восприятие и осознание себя («Я») как «Я-Другого». Таким образом, дихотомия
«Я-Другой» играет ключевую роль на всех этапах психических процессов сознания: начиная с рефлексии и заканчивая восприятием внешних явлений». Таким образом, происходит акцентуация на изучение «отзеркаливающих» связей, и предметов, их отражающих. Вместе с тем, к настоящему моменту следует констатировать, что, несмотря на обилие трудов, затрагивающих проблемное поле практики исторической имагологии, научных исследований по проблемам теоретико-методологических вопросов в отечественной историографии довольно-таки немного.
Изначально имагология обрела свое начало во французских литературоведческих исследованиях компаративно-исторической направленности середины XX столетия. Чуть в более позднее время французские философы-постмодернисты значительно углубили данное направление, выявляя, в частности, образные условности языка, проявление социокультурных паттернов в повседневной речи,
В конечном счете, к примеру, стало возможно обращение к проблемам восприятия и взаимовосприятия наций, одна значительная «объемность», многоуровневость и некая аморфность постигаемого предмета значительно усложняет данный процесс и предъявляет серьезные требования к методологическому инструментарию. Э. Хобсбаум в данном контексте указывает следующее: «…не способны растолковать наблюдателю, как a priori отличить нацию от других человеческих сообществ и групп – подобно тому, как можем мы ему объяснить различие между мышью и ящерицей или между отдельными видами птиц. Если бы за нациями можно было наблюдать примерно так же, как и за птицами, занятие это не составило бы особого труда».
Сквозь призму подобной проблемы особенно остро встает вопрос постижения «другого» как первичный процесс постижения самое себя. Однако процесс изучение человеческого восприятия и самовосприятия становится довольно затруднителен в условия утраты индивидами идентичности в рамках глобализационных процессов. В противовес позиции Хобсбаума К. Поппер заявил, в свою очередь, что «нация – определенное количество людей, объединенных общим заблуждением касательно своей истории». Так или иначе, но в данном ключе происходил своеобразный процесс виртуализации ментального пространства нации как социальной единицы, и ее выпадение их «чисто» исторического пространства исследований. В рамках данного подхода можно обнаружить «родовой признак» имагологии – ее приверженность философским принципам конструктивизма, и постструктурализма, если рассматривать направленность проблемного поля современной имагологии.
Особое значение в контексте изучения имагологии имеет характеристика ее эпистемологического и аксиологического потенциала. В частности, в рамках имагологических исследований особое значение принимает акцентуация культурного наследия в стереотипах той или иной социальной группе, а также степени преобладания ее в вопросах конструирования культурологического содержания настоящего. В отношении классификации имагологии наиболее уместной представляется классификация, предлагаемая Ю.М. Андрейчевой: «имагология подразделяется на литературоведческую (изучает образы в литературе), лингвистическую (исследует языковые стереотипы), историческую (осуществляет конкретно-исторический анализ коллективных представлений друг о друге). Разделение указанных подобластей имагологии обусловлено спецификой объектов их исследования: будь то памятники художественной литературы, язык или исторические источники. Тем не менее, указанное разграничение сфер имагологии носит условный характер, поскольку любое исследование образа «Другого» требует анализа явлений в широком историко- культурном контексте и, по сути, осуществляется на стыке целого ряда гуманитарных дисциплин» .
В целом, можно согласиться с исследователем насчет абстрактности вычленения каких-либо типовых дефиниций, поскольку сущность данного направления также определяется не зависящим от внутренних предметных рамок инструментарием методологических подходов других дисциплин и научных направлений. Сопоставление подобных подходов в рамках новой исторической науки значительно повышает познавательный потенциал исторической имагологии.
Еще одной крайне значимой единицей имагологического познания выступает стереотип. Тем не менее, данное понятие является достаточно расплывчатым, и трудно для содержательного «охвата». В частности, если рассматривать данный термин в рамках «классического» психологического определения, то уместно привести следующее: «Стереотип – жесткое, часто упрощенное представление о конкретной группе или категории людей.
Поскольку мы вообще склонны к упрощениям, то формируем стереотипы для большей предсказуемости поведения других людей. Эти стереотипы часто имеют негативную природу и основаны на предрассудках и дискриминации. Стереотипы не обязательно являются ложными; обычно они содержат некое зерно истины. Их разделяет значительное количество людей, что в целом способствует их укоренению. Стереотипы могут меняться со временем, но их носителям часто бывает трудно избавиться от усвоенных представлений».
Данному термину апеллирует достаточно широкое число специалистов из различных направлений. В настоящее время существует достаточно интересная классификация, предлагаемая Д.И. Щербаковой, в отношении классифицирования стереотипов, к которым апеллирует понятийный аппарат исторической имагологии. Первое направление представлено той группой стереотипов, которые направлены на акцентуацию когнитивного среза изучаемого объекта, «носителя» стереотипа. Второй тип стереотипов, выделенных исследователем, направлен на анализ и характеристику эмоционально-волевых доминант как индивида, так и группы, в процессе постижения им исторической реальности. Третий тип раскрывает общественное и повседневно-бытовое содержание стереотипа, его значение в коммуникативной практике изучаемых категорий социума.
Особую категорию составляю этнические, или национальные стереотипы. Изучение данных стереотипов связано с высокой степенью рисков, касающихся взаимовосприятия одной нации представителями другой этничности, и, как следствие, зачастую в этот термин вкладывается в высшей степени негативный смысл. В таком случае неизбежно нарастание противоречий, переносимое уже в пространство академических сообществ, что было бы недопустимых и опасным проявлением. Вследствие этого, изучение стереотипизации представляется довольно проблематичным и в значительной мере «рассеянным» направлением, которое должно рассматриваться с учетом актуальных политико-правовых реалий.
В контексте изучения стереотипов также особое значение принимает так называемый поиск «ядра истины», то есть того изначального минимума каких- либо предпосылок или установок, которые способствовали конечному «рождению» стереотипа в его связи с исходными данными и языковыми трансформациями. В связи с этим определенное значение принимает понятие «нарратива» как доступности текста вообще. Преобладающим на сегодняшний день этапом развития научного знания является постнеклассическая научная парадигма, получившая свое развитие, по разным оценкам, во второй половине XX в. Одним из ее ключевых составляющих является «лингвистический поворот» – неоднозначное событие в мировой философии, ознаменовавшее поиск новых подходов роли и значения языка в научных изысканиях, определения степени научности и доступности исследовательского нарратива, разрешения того кризиса, в котором оказалась наука в указанный период.
Особое значение принимает проблема объективных способов познания окружающей действительности; в настоящее время научное сообщество сталкивается с все увеличивающимся количеством научных работ, статей и даже монографий, пытающихся разрешить эту проблему. Однако в связи с этим возникает вопрос, насколько доступны для восприятия, понимания и усвоения данные тексты, и насколько они выдержаны в рамках «классической» научности. Рассмотрим это на примере предложенного текста о специфике познании как субъекта человеческой деятельности.
В предложенном нарративе (здесь: «модель «объясняющего рассказа», основанная на принципиальной повествовательности природы знания») представляется логичное и последовательное изложение авторской концепции сущности познания.
Однако современный текст о познании весьма перегружен терминологией, – «семантика», «феноменология», «герменевтика» – которая вряд ли с первого раза будет понятна неподготовленному читателю или даже исследователю, не специализирующему на некоторых аспектах социогуманитарного знаний. В то же время, такая повышенная информативность неизбежна, поскольку к настоящему времени несколькими поколениями научных школ и исследователей оказался накоплен мощнейший пласт научно-практического опыта и результатов в данной сфере, игнорировать который было бы верхом субъективизма и проявлением не научности подхода. Так, анализ познания как вида человеческой деятельности практически не возможен без понимания такого раздела философского знания как эпистемология – собственно, теории познания в философии.
Наличие множества научных направлений создает кризис доверия к тому массиву текстов о познавательной деятельности и отсутствие какого-либо явного и неопровержимого критерия, позволяющего верифицировать практический результат, получаемый в процессе познания. Однако, с другой стороны, загнать представление о такой сложной деятельности человека, как познание, в «прокрустово ложе» какой-либо одной научной методологии и текстологического стиля было бы нарушением всех принципов современного социогуманитарного знания. В итоге, в науке возникает ситуация, когда для описания процесса познания требуется мощный и вызывающий повсеместное доверие научно-методологический инструментарий, который вместе с тем мог бы учесть все разнообразие существующих способов анализа и иных способов ведения исследовательской деятельности.
Таким образом, можно заключить, что, несмотря на всю свою потенциальную научность и доступность современный текст, посвященный проблемам познавательной деятельности человека, связан с множеством рисков в трансляции содержательного смысла аудитории такого текста. Поэтому научному сообществу еще предстоит выработать подходы к созданию максимально доступного для восприятия и не выходящего за рамки научного языка текста.
1.2 Пространство интеллектуальной истории в контексте проблем исторической имагологии
Если смотреть на ситуацию в ретроспективе, кажется парадоксально, что, начав набирать популярность в 1960-х, «история идей» испытала на себе осуждение в западных университетах, и что историки сочли целесообразным чуть ли не запретить их изучение, как устаревшее учение, если не реакционное. Но только поколение назад, впечатляющий рост социальной истории и других направлений принес с собой презрение к идеям и политике элиты в то время, когда, в более широком смысле, общество стало опасаться интеллигенции.
История идей также оказалась под атакой тех, кто, по любым меркам, может быть описан как интеллектуалы и элиты. Существует легенда, согласно которой в отделе аналитической философии Принстонского университета якобы висел баннер в залах, который говорил – «просто скажи нет истории идей».
Возрождение интеллектуальной истории сегодня предвещает возвращение к времени, когда она воспринимается как нечто большее, нежели интересы культурных и политических сил. Это дает представление о том, что обновленная уверенность в силе идей, чтобы понять идеи, стерев междисциплинарные границы, может сделать для мира исторической науки гораздо больше, чем в прошлом веке.
Но это также создает проблемы для области, которая рискует стать жертвой своего собственного успеха. Удивительно, но ученые, которые гордятся признанием их интеллектуального самосознания, демонстрируют очевидное снижение уровня самоанализа. Понимание ренессанса интеллектуальной истории проливает свет на более широкие течения и их проблемы.
Социальная история часто ассоциируется с количественным подходом, который предлагал способ проанализировать широкий массы человечества, вместе с тем обвиняя интеллектуальную историю – зачастую небезосновательно – в идеалистической абстракции, недооценке важности материальных факторов в формировании человеческого прошлого и игнорировании тяжелого положения простых людей.
Вскоре, однако, мода на социальную историю вошла в свой период самоанализа и «кризиса», как и некоторые из ее самых способных практиков начали чувствовать, что неустанное ущемление качества количеством неверно даже для жизни самых простых людей.
В то время как французская традиция Histoire де mentalites давно стремилась осветить умственные привычки обычных людей, то «новая культурная история», которая выросла в 1980-х годах с целью интерпретировать смысл через новое обращения к антропологической и другим теориям, понимает «культуру» как всепроникающую семиотическую сеть. Последствия для традиционной интеллектуальной истории были похожи на те, с которыми столкнулась социальная история.
В данном контексте в рамках истории идей и среза интеллектуальной истории следует указать такое направление, как потестарная имагология. В частности, направленность к данному направлению отмечает Ю.М. Андрейчева: «Отмеченная тенденция дифференциации внутри имагологического знания свидетельствует о том, что назрела необходимость уточнить предмет ее исследования.
Думается, что под таковым правильнее понимать гетеро- и аутообразы, воспроизводимые социальными сообществами. Введение «социального сообщества» как субъекта, воспроизводящего образ, позволит расширить круг исследуемых имагологией респондентов, в который естественным образом войдут, помимо культурных и этнических сообществ, религиозные, властные и прочие сообщества. С другой стороны, в таком определении сохраняется принцип «Другости» как специфический исследовательский ракурс, присущий имагологической проблематике».
Наличие этого направления характеризует и конституирует своеобразное отчуждение сферы сакрального в направленность другого характера – формирования специфической образности религиозных мифологем. Помимо этого, характерной чертой методологического поиска представителей потестарной имагологии выступает стремление к вычленению наиболее одиозных аспектов религиозной проблематики, и рассмотрение их с позиций «новой социальной истории». Вместе с тем, следует отметить такую характерную деталь исследовательского дискурса потестарной имагологии, как выявление в первую очередь социально-производственных, а не идеальных факторов, в причинности тех или иных стереотипизирующих процессов в религиозном пространстве.
К примеру, А. Панченко отмечает: «Итак, если рассматривать появление местных святынь и сакраменталий в католических и православных культурах европейского Средневековья и Нового времени как более или менее постоянный процесс производства сакрального, то представляется вполне очевидным, что многие известные кровавые наветы были частью этого процесса и что первоначальным стимулом к очередному распространению легенды о ритуальном убийстве могла быть не столько ненависть к евреям, сколько потребность той или иной общины в новой святыне. Разумеется, уровней рецепции и репрезентации кровавого навета было довольно много, и функции подобных легенд не следует редуцировать исключительно к религиозным потребностям первичных социальных образований.
Вместе с тем, мне кажется очевидным, что и легенды о ритуальном убийстве, и легенды об осквернении гостии были интегрированы в локальные религиозные практики, были частью повседневной религиозной жизни деревень и городов Западной Европы эпохи Средних веков и раннего Нового времени.
Этим, вероятно, и стоит объяснять чрезвычайную устойчивость кровавого навета во многих католических странах». Тем самым утверждается мысль о трансформации привычных социальных локусов в иной социокультурный паттерн с учетом возникающих в данном регионе тех или иных особенностей развития традиционной культуры.
Примерно в то же время, сами интеллектуальные историки начали настаивать на централизации теорий, исключающих любую очевидную роль своей собственной дисциплины в подъеме культурной истории. В ответ на «кризис» в интеллектуальной истории, осажденной ростом социальной истории, историки Dominic La Capra и Stiven L. Caplan организовали большую конференцию в Корнельском университете в 1980 году, чтобы обсудить объем информации, накопленный современной европейской интеллектуальной историей, её переоценку и новые перспективы.
Сможет ли интеллектуальная история сделать лингвистический поворот, и, если да, то в каком направлении? Какие способы можно изобрести, чтобы теоретизировать язык? Могут ли инструменты и критические перспективы, открывающиеся в результате постструктуралистской литературной теории предложить интеллектуальные историкам новую методологию для чтения текстов?
Сложность обретенной парадигмы, следующей из таких вопросов, предполагала, что историки прошлого провели свою работу на основе достаточно простых понимания смысла и текстуальности, демонстрируя повышенное внимание к западному марксизму, постструктурализму и психоанализу.
Последующие дебаты были оптимистичными. Но иногда они порождали своего рода междоусобные баталии, приводя к дальнейшей маргинализации интеллектуальных историков из других отраслей дисциплины, члены которого не всегда разделяют то же самое чувство необходимости теоретизации практики языка и текста.
Сегодня научный горизонт выглядит совсем по-другому. Так называемый культурный поворот отрекся от некоторых из своих самых влиятельных сторонников, от ведущих ученых, таких как Линн Хант, склонных к переосмыслению оригинальных идей или, по крайней мере, шагу за его пределы. В то же время, интеллектуальная история вновь стала популярной.
Активизация старых изданий, таких как Journal of the History of Ideas, основание новых журналов, как Modern Intellectual History и создание таких групп, как Society for U.S. Intellectual Historians вместе с возобновлением интереса и волнением среди студентов, издателей, и читателей сигнализировало о том, что что-то изменилось.
1.3 «Свои» и «иные» в контексте позиционирования еврейства
Одним из основных аспектов исследовательского пространства в направлении исторической имагологии выступает понятие оппозиции «Свой»-
«Чужой». В частности, наличие данного противопоставления позволяет ряду специалистов поместить поле исторической имагологии в соответствующий раздел компаративистики.
Проблематика «Свой»/«Другой» входит в компетенцию имагологии (от «imago» – «образ» и «logos» – «слово», «смысл», «суждение») – направления гуманитарной компаративистики, возникшего во французском сравнительно-историческом литературоведении в 1950-е гг.
Первоначально, задачей имагологии виделось «исследование в литературе образа другой страны, образа инонациональной культуры, объяснение его происхождения и влияния», в том числе и во внелитературных областях».
Довольно скоро новая дисциплина вышла за рамки литературоведения, а ее проблематика и методология нашли применение в различных областях гуманитарного знания, в связи с чем, сегодня имагология понимается довольно широко как «сфера исследований в разных гуманитарных дисциплинах, занимающаяся изучением образа «Чужого» (чужой страны, народа и т.д.) в общественном, культурном и литературном сознании той или иной страны, эпохи»
Необходимо добавить, что указанное определение все-таки неполно отражает исследовательское «поле» имагологии, ограничив его изучением гетерообразов.
За скобками дефиниции осталась важная имагологическая задача – анализ аутообразов как ключевого фактора, диалектически связанного с образом «Другого». В данной постановке препозиции определяется качественное соотношение различных препозиций образности. Для конституирования данной препозиции использовались разнообразные методы, но прежде всего, если затрагивать потестарную имагологию – теологический нарратив.
Весьма интересна динамика эволюции образности «своего» и «чужого» на протяжении развития мировой истории. В частности, весьма сильной дефиниция данных установок была в античную эпоху, учитывая стремление греков к обособлению от варварского сегмента.
Вместе с тем, готовность расширения собственных социальных позиций встречается у римлян, с их практикой веротерпимости и принятия в свой пантеон практически всех божеств покоренных ими наций. В эпоху Средневековья произошло изменение данной тенденции в угоду противостоянию «христиан» и «язычников».
Однако именно здесь церковь и конфессии приняли самое деятельное участие в позиционировании другого, и в частности, еврейства. Именно в это время произошло «зачатие» идеи кровавого навета на евреев. С другой стороны, именно в это время особо остро проснулся элемент «магического» в восприятии обывательских масс.
Пробуждая в пастве рефлексию, стремясь «достучаться» до религиозного чувства своих «подопечных», и католическая, православная церковь излишне экзальтировала последних, и тем самым побуждала их к крайнему фундаментализму в отношении «инаковых». Это же проявилось и в трансформации образных паттернов виктимизированных объектов – жертв ритуальных убийств. Уильям из Норвича, Симон Трентский, Гавриил Белостокский стали предметом манипуляции.
И в данном случае А. Панченко отмечает крайне любопытную деталь: «Важно подчеркнуть, что в этих и подобных им случаях инициатива преследования евреев исходила не от клириков или светских властей, а от самих прихожан, а результатом кровавого навета становилось появление новой святыни, будь то почитаемый камень или священный нож.
В этом отношении «наветные» святыни вполне сопоставимы с почитаемыми артефактами и ландшафтными объектами, чьи культы играли и продолжают играть немаловажную роль в повседневной религиозной жизни многих католических, православных и мусульманских культур. Появление подобных священных мест и предметов, судя по всему, обусловлено своеобразным недостатком сакрального, зачастую связанным с различными кризисами в жизни общины или отдельных ее членов (болезни и эпидемии,
экономические неурядицы и т. п.), а повествования, посвященные обретению таких святынь, нередко включают мотивы святотатства и насилии». Таким образом, как справедливо замечает специалист, в данном контексте в экзальтированных массах Средневековья и Нового времени играл едва ли не первобытный магический фетишизм, стремление к культово-образной обеспеченности.
Нарастание неприязни к еврейству ввиду социально- экономических причин было неизбежным и набирало динамику, но вот «ненавидеть просто так» вовлеченные в данный дискурс социальные категории не могли. Требовалась визуализации конфликтной ситуации – в виде «жертв» и «злодеев».
Вместе с тем, стремление к обособлению данной образности неизбежно влекло за собой отчуждение не только от реального образа еврейства, но и от самовосприятия самих христианских масс, утрате ими первоначального морально-эстетического и отдаления социокультурного опыта, столь необходимого для осознания собственной идентичности.
Следует сказать, что А. Панченко, характеризуя данную проблему, отмечает в частности, что любые негативные инсинуации в отношении представителя другой социальной группы является результатом «коллективного воображения, которые сопровождают значимый для любого из нас процесс разграничения «своего» и «чужого».
Какими бы ни были общественные, экономические и культурные факторы, влияющие на формирование образа «чужаков» с их обычаями и ритуалами, нравами и стремлениями, речь, как правило, идет о социальной стигматизации, то есть о формировании «негативной репутации» в отношении людей и групп, которых почему-либо не причисляют к «своим». Для специалиста в области фольклористики и истории массовой культуры особенный интерес в данном случае представляет постоянство сюжетов, мотивов и образов, при помощи которых эта репутация конструируется, закрепляется и передается.
Религиозная культура здесь не составляет исключения; наоборот, именно стигматизация религиозных меньшинств на протяжении тысячелетий европейской истории характеризуется пугающим однообразием. Таким образом, конституирование препозиций своего и чужого является неизбежным актом не только осознания индивидом или группой собственной идентичности, но своего рода механизмом психической самозащиты, обретения своего «Я-образа».
1.4 Место церкви в позиционировании образности еврейского населения
Трансформация образности восприятия еврейского населения церковью представляет собой одно из значимых направлений потестарной исторической имагологии.
В частности, необходимо отметить, что русская православная церковь с момента своего обоснования позиции статус-кво на территории древнерусского государства и вплоть до XIX-XX столетия весьма настороженно относилась к иудейскому контингенту населения Российской империи, полагая последних своими естественными конкурентами.
Немалую роль в данном вопросе играла и догматика православия, в контексте которой иудеи были представлены распинателями Христа в соответствии с новозаветной нарративной традицией.
Таким образом, негативные факторы в восприятии иудейства были заложены изначально со стороны православной церкви и требовали своей соответствующей реализации, специфической рефлексии, отражавшей данную позицию как необходимое условие причастности к данному социокультурному локусу.
С другой стороны, навязывание своей позиции, пусть даже и в стремлении распространить вероучение, никогда не было присуще Русской православной церкви; даже миссионерские акции носили скорее полемический, нежели административно- силовой характер, как это можно обнаружить в католической традиции.
С другой стороны, Ю.М. Андрейчева отметила довольно интересный аспект: «важно также учитывать аутообраз того религиозного сообщества, которое воспроизводило исследуемые гетерообразы. Религиозное самовосприятие и самоидентификация – это своего рода «линза», через которую, приобретая свое уникальное преломление, в общине верующих формировались представления об иноверии и иноверцах.
Например, ракурс восприятия иноверия и иноверцев (нейтральный или же со знаками «плюс»/минус») зависел от того, считало ли религиозное сообщество свое вероучение единственно истинным (как, например, это было присуще монотеистическим религиям и конфессиям) или же полагало, что иные религиозные представления – это своеобразные модификации их собственного (идеи, свойственные политеистическим верованиям). Отсюда и проистекало отношение к «Другому» как к «Чужому» – «Чуждому» и, в конечном счете, «Враждебному», или же, как к «Иному».
Однако данный фактор достаточно сложно представить как превалирующий в вероучительской практике православной церкви. Сама идея некоей изначальной, «первичной» агрессивности, стремление обращать в веру отсутствовала в идейно-интеллектуальном пространстве православной церкви, чего не скажешь об идеях некой духовной «защиты», стремлении обособления собственных позиций и статус-кво в противостоянии с другими конфессиями, а также сектантскими и еретическими отхождениями.
Особое положение в образности евреев в христианской православной традиции занимали выкресты. Задачей православной стороны было, в том числе, провести полную индоктринацию идей привязанности христианской миссии и причастности к «верной» конфессии, вследствие этого, распространялись различные специфические мифологемы, выступавшие, по сути, своего рода вербальными ограничителями.
Одной из таких мифологем стало распространение слухов, что, якобы, еврейское духовенство специально умерщвляет решивших вернуться обратно в кагал выкрестов как «опозоривших» иудейскую веру.
Парадоксально, но сами выкресты, никогда, вероятнее всего не сталкивавшиеся с подобным в практике еврейского кагала во время своего пребывания членом общины, тем не менее, охотно принимали данный социокультурный паттерн, и более того, становились активными его ретрансляторами. Некоторые из выкрестов, например, в рамках «Люцинского дела» сами конструировали и порождали социальные мифы, причем в большинстве случае исходной причиной этого была не месть кагалу, а желание коммерческой выгоды, либо получения определенной доли известности.
Особой позицией в отношении выкрестов со стороны православного духовенства было стремление получить явные свидетельства об искренности переходящего в православную веру, поскольку огромное число предприимчивых иудеев согласились на внешнюю смену конфессии при тайном сохранении своих убеждений и внутреннем распорядке соблюдения всех прежних религиозных практик – сохраняя тем самым некую специфическую ситуации межконфессионального «двоеверия». Наличие специфических препозиций в отношении выкрестов объяснила также изначальная ориентированность русской православной церкви на стратегию «безопасного» и умеренного интегрирования еврейского сегмента в состав своей паствы.
Официально, причиной ограничения «иноверцев», в т. ч. иудеев, в правах являлось недопущение «совращения» христиан. Речь не шла о предоставлении преимуществ исключительно Русской православной церкви: от правовой дискриминации еврея освобождало обращение не только в православие, но и в другие признаваемые в России христианские исповедания. Кроме того, при создании особых законоположений и правил об иудеях правительство руководствовалось мотивами не только религиозного, но и светского характера – административными, экономическими, фискальными и др.
Православные иереи, в частности митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний, подчеркивали, что ограничения гражданских прав иудеев вызваны не интересами православной церкви, а политическими соображениями. Во всяком случае, неправомерно объяснять законодательные притеснения евреев-талмудистов исключительно конфессиональным неприятием иудаизма православной церковью». Таким образом, можно обнаружить достаточно умеренную и «безопасную» стратегию инкорпорирования иудейского сегмента в число паствы русской православной церкви.
Характерно, что с развитием общественно-политических движений в России второй половины XIX столетия меняются и подходы русской православной церкви к восприятию образности евреев. Если ранее осуждалось еврейство, как потомки «распявших Христа», то сейчас данная категория отрицалась за примыкание к революционному движению и террористическую «охоту» на помазанников Божьих, что, по мнению позиции церковного руководства, было явным признаком «безбожия». В то же время, официальная церковь категорически неприемлела и всячески осуждала практику религиозных погромов, поскольку не считала это эффективным и достойным любого христианина «методом» вразумления «безбожников». Так, массовые погромы, прокатившиеся по стране в 1881 г. после убийства «царя- освободителя», а также «Кишеневский погром» 1903 г. был строго осужден и непринят иерархами православной церкви.
Так, к примеру, идеология «кровавого навета» в Европе к концу XIX – началу XX столетия не только не осуждалась и подвергалась искоренению, а наоборот, была увлеченно «подхвачена» католическими теологами, увидевшими в данном процессе едва ли не «ренессанс» инквизиционных возможностей.
В тоже время православная церковь, к примеру, в лице представителей своего духовенства всячески стремилась не допустить неправедного осуждения М. Бейлиса во время одноименного юридического процесса, добивалась привлечения к расследованию профессиональных гебраистов и, в конечном счете, не без участия последней Бейлис был оправдан. В тоже время католичество на данном процессе, в лице ксендза И. Пранайтиса, стремилось выставить иудея своего рода «пожирателем христианских младенцев».
Данный случай можно было бы трактовать как эпизод индивидуальной испорченности ксендза, однако, неслучайным был социальный тренд антисемитизма в догматической парадигме польского католического духовенства. В данном контексте также следует отметить деятельное участие отдельных православных деятелей, в частности, Св. Иоанна Кронштадского, в деле опеки над процессом социальной «реабилитации» еврейства.
Таким образом, русская православная церковь стремилась исполнить свою социальную роль по преодолению дискредитации еврейского населения.
Глава 2. Основные социальные характеристики и позиционирование российского еврейства
2.1 Истоки возникновения «еврейского вопроса» в Российской империи
Первые элементы коммуникации славянского населения Древней Руси и иудейства можно отнести к VIII-IX вв., и связаны они были с внешнеполитическими и торговыми сношениями с Хазарией – соседним государством, официальной конфессией которого выступал иудаизм. Уже к XI- XII столетиям проникновение еврейского сегмента в древнерусские общины было столь велико, что в столице Киевской Руси было инициировано возникновение так называемого Жидовского квартала.
Характерно, что в это время складывается значительная степень предубеждения автохтонного населения против евреев, и этому процессу сопутствовали вполне объяснимые экономические причины: еврейство занималось преимущественно дачей в рост ссудных капиталов, получая в случае невыплат должников в качестве холопов, это явление было столь велико, что во время антиростовщического Киевского восстания 1113 г. население в жесткой форме потребовало от князя Владимира Мономаха «жидов изгнаша».
Большое негативное влияние на восприятие еврейства православным население оказало распространение так называемой «ереси жидовствующих», вследствие которой, в начале XVI в. евреям оказался запрещен въезд в Московское царство. Таким образом, социокультурные предубеждения против еврейства складывались на основе финансово- экономических и сакрально-религиозных факторов, однако со временем тенденция такого восприятия все более склонялась в сторону последних. Так, к примеру, положениями Соборного Уложения 1649 г. значилось: «А буде кого бусурман какими-либо мерами, насильством либо обманом, русского человека к своей бусурманской вере принудит и по своей бусурманской вере обрежет, и сыщется про то допряма, и того бусурмана по сыску казнить, сжечь огнем без всякого милосердия» (ст. 24 гл. XXII).
Таким образом, как можно обнаружить, создавались правовые прецеденты для ограждения от чуждого, в данном случае иудейского влияния на христиан. Однако, несмотря на ряд запретительных предписаний, еврейский сегмент, так или иначе, проникал на территории Московского царства. Каналов горизонтальной мобильности было, как минимум, два: а) попадание евреев в качестве военнопленных во время ведения боевых действий с Речью Посполитой в XVII столетии; б) проникновение евреев как финансово-торгового элемента с последующим оседанием на территории страны (последнее, впрочем, было сильно ограничено, и в частности, в череде договоров с Польшей, в том числе «Вечном мире», было оговорено запрещение о допуске евреев на территорию государства дальше приграничных городов и поселений».столетие не привнесло особых антидискриминирующих новшеств в практику обращения российской власти и общества с еврейством. Так, к примеру, в правление Петра II было издано распоряжение, согласно которому: «жидов, как мужеска, так и женска пола, которые обретаются на Украине и в других российских городах, тех всех выслать вон из России немедленно и впредь их ни под какими образами в Россию не пускать, и того предостерегать во всех местах крепко».
Справедливости ради следует отметить, что такое отношению к еврейству являлось распространенной социокультурной тенденцией многих европейских государств периода Средневековья и раннего Нового времени. В российской общественно-правовой практике мы можем обнаружить, что происходило удивительное расхождение в сфере экономического и духовного регулирования российского общества XVIII столетия в отношении евреев. Так, вопросы торгово-финансового режима были поставлены достаточно мягко по отношению к еврейскому купечеству и «прибыльщикам»: им было разрешено расселение на приграничных территориях, получая там прибыль от оптовой и розничной торговли; что характерно, в правлении Елизаветы Петровны высшими сановниками был разработан проект ограниченного допуска еврейских торговцев на внутренние ярмарки страны, который сулил бы солидные поступления в государственный бюджет, однако императрица, известная своей набожностью, отреагировала вполне категорично: «От врагов Христовых не желаю иметь интересной прибыли». Более того, в 1740-х гг. последовал ряд указов, по сути продублировавших и расширивших указ Петра II от 1727 г. о запрете и высылке евреев за пределы Российской империи. Фактически, поводом к этому послужил имевший место быть еще в 1738 г. инцидент с переходом бывшего флотского офицера А. Возницына в иудаизм, с последующим осуждением и сожжением заживо его и раввина, проводившего процедуру «перекреста».
Такая радикальная тенденция в отношении «чистоты» христианской веры от иудейского вмешательства, идущая еще со времен Древней Руси, вполне очевидна. Дж. Клиер вполне резонно отмечает: «То обстоятельство, что христианская церковь на Руси была еще молода и боролась против пережитков язычества в форме так называемого двоеверия, придавало особую остроту ее нападкам на религии-соперницы. Однако ее пылкие антиеврейские настроения мало сказывались на рядовом населении. Сложные богословские сочинения таких представителей церковной элиты, как Иларион или Кирилл, не годились, да и не предназначались для широких масс, для еще не полностью обращенного в христианство народа». Однако, длительное время это было проявлением духовных поисков и теологических споров апологетиков христианства и никак не было связано с социально-бытовыми и политико-правовыми конфликтными ситуациями.
Политика Екатерины II первых лет правления мало чем отличалась от ситуации ранних периодов.
Политический истеблишмент Российской империи по-прежнему видел в еврействе потенциальную «басурманскую» угрозу. Несмотря на робкие попытки императрицы, каким-либо образом пересмотреть данный вопрос при вступлении на престол, никаких изменений не последовало вплоть до 1769 г., когда в условиях событий русско-турецкой войны из Османской империи прибыла партия пленных, которых было решено разместить на землях Причерноморья в исполнение тенденции к колонизации Новороссийских земель.
Ситуация коренным образом изменилась в 1772 г., когда в результате раздела Речи Посполитой Российской империи в «наследство» досталось, как минимум, около 80-100 тыс. евреев в качестве подданных. В отличие от польской стороны, у имперской администрации не было ни позитивного, ни негативного управленческого опыта в регулировании вопросов образа жизни и регламентации социального устройства еврейских общин. Чего совсем не скажешь о Польше, чей опыт довольно интересен в контексте изучения «еврейского вопроса» и образности еврейского населения.
Следует сказать, что отношение к еврейскому населению в Речи Посполитой, несмотря, казалось бы, на столь его объемное наличие, было, мягко говоря, декларативно игнорирующим и уничижительным. В частности, Л. Леванда, характеризуя «польский период» пребывания евреев Белоруссии, Литвы и Западной Украины, отмечает, что «вместо положительных законов для евреев существовали только привилегии, которые, как таковые, то им давались, то отнимались у них, так что евреи попеременно бывали то полноправными, то бесправными гражданами Речи Посполитой». Если отслеживать политику польского государства в данном вопросе, то на практике, на самом деле, была высока степень непоследовательности королевской власти в отношении своих польских подданных, колебания которой зависели от степени нарушения интересов польского населения в торгово-экономической сфере. Колебания политики Речи Посполитой в отношении еврейства, была вызвана, вероятно, следующими причинами: а) отсутствием династической формы передачи власти (король в Польше был фигурой, избираемой дворянским парламентом – Сеймом) и как следствие, отсутствие единого политического подхода ввиду частой смены правящих сторон; б) естественное стремление вновь избранных «крулей» угодить тем социально-политическим силам в Сейме, которые способствовали получению ими власти, и как следствие, подобная переменчивость внутриполитического курса в отношении еврейства.
В российских реалиях нарастание конфликтных ситуаций в общественном дискурсе особенно пришлось на события XIX – начала XX столетия. Обострение еврейского вопроса в этот период связано со многими факторами. В первую очередь, это распространение идеологем «кровавого навета» (см. п. 3.3), которые служили черной пиар-легендой в восприятии еврейства.
Другой причиной служили исключительно финансово- экономические мотивы. XIX век – время бурного промышленного переворота и активного капиталистического развития и в этих условиях стало разворачиваться почти что природная предприимчивость еврейства, которая провоцировала ощутимый элемент социальной зависти населения, воспринимавшей успешность семитского сегмента населения не иначе как применением некой «еврейской магии» вкупе с элементами коммерческой нечистоплотности.
Еще одним фактором выступает высокая степень изоляционизма еврейских общин (кагалов), вялая динамика ассимиляционных процессов еврейства в российский социум, их стремление сохранять элемент корпоративной закрытости. Все это привело к такой специфической форме рефлексии российского общества по отношению к еврейскому населению, как мощные погромы еврейских мест оседлости. Характерно, что катализатором таких процессов выступали любые острые событий политического, криминального (в случае резонансного преступления) или социально- экономического толка. Так, например, событие убийства Александра II характеризовалось мощной волной погромного движения, ибо «неравноправие еврейского населения, застарелый антисемитизм и недовольство православного городского населения экономической конкуренцией со стороны евреев способствовали в этой ситуации широкому распространению слухов о том, что царь был убит евреями и что в связи с этим власти отдали негласный приказ повсеместно устраивать погромы». Однако, было бы ошибочно полагать что дискриминативные и делинкветные действия социально-бытового характера в отношении еврейства никак не сдерживались самодержавной администрацией. С другой стороны, имперские управленцы зачастую сами допускали юдофобские злоупотребления в отношении еврейского сегмента населения, также пребывая в плену у распространенных антисемитских идеологем и стереотипов. Чаще же всего, правительство империи занимало позицию наблюдателя, о чем свидетельствует заявление одного из последних монархов:
«Сердце мое радуется, когда бьют евреев, но дозволять этого ни в коем случае не следует». Таким образом, своим игнорированием проблемы ряд одиозных правителей страны фактически санкционировал антиеврейские выступления, с одной стороны, с другой, правительство все же старалось жестоко пресекать подобные асоциальные проявление. Следует также отметить, что правление Александра III, пожалуй, стало наиболее острым периодом в отношении еврейского населения, в частности, представителей еврейства подверглись довольно мощным и значимым ограничениям по направлениям профессиональной карьеры, социальной мобильности, образованию, службы в армии и на флоте. Отчасти причиной этому было активное участие части членов еврейской интеллигенции в революционном движении, что, вкупе с событиями марта 1881 г., весьма настораживало самодержца, побуждало его продолжать в отношении еврейского населения ограничительную политику. Только в правление Николая II наметились некоторые положительные сдвиги (включая прецеденты «дела Бейлиса») однако этот процесс прервало крушение монархии.
2.2 Конструирование черты оседлости евреев на территории империи
В конце XVIII столетия, с присоединением земель Речи Посполитой, у Российской империи оказалось порядка ста тысяч евреев в подданстве.
Екатерина II, исходя из идеологических установок «просвещенного абсолютизма», предпочитала проводить политику уравнивания еврейского сегмента со всеми остальными сословиями, однако данная позиция не находила отклика как у остального политического истеблишменте в государстве, так и у российского общества в целом. Первое время после присоединения белорусских территорий еврейство практически не покидало бывшие польские земли, поскольку не имело каких-либо прагматических целей вне пределов региона.
Тем не менее, определенная, экономически активная часть еврейского населения все-таки решила проводить распространение своих интересов в направлении внутреннего рынка страны. Разумеется, что коренная торгово- экономическая элита Российской империи того периода была отнюдь не рада встретить такого конкурента.
К местным администрациям начались шествия купеческих депутаций, где последние пытались доказать чиновникам участие еврейства в нечистоплотных торговых схемах, мошенничестве, подлогах и иных преступлениях экономического характера. Так, к примеру в 1790-м году такая депутация требовала от генерал-губернатора Москвы насильственной депортации всех еврейских купцов.
Недовольство купечества вызывала «подлая» торговая стратегия еврейских «коллег по цеху», которые принялись активно заниматься торговлей на территории страны: «по делам доставлять им правосудие, равномерно и всякие по торгам и промыслам и по городовому праву выгоды… везде в России, где живут, а именно не токмо в Белоруссии», не торгуя в их «коренном регионе», что, по мнению купечества, приносит страшное разорение, не столько им, сколько государственной казне в целом. В итоге это спровоцировало издание Екатериной указа от 23 декабря 1791 г., который, хоть формально и позволил приписываться к российскому купечеству, и помимо Белоруссии позволил еще пребывать в ряде территорий Украины, однако на деле ввел для последних строгие рамки их обитания в пределах отведенных регионов.
Следует сказать, что еврейская деловая элита очень быстро осознала всю опасность принятия такого постановления императрицы, и в специальном прощении, поданном на ее имя, «верноподданичейше» упрашивала самодержицу об отмене законопроекта. Однако устная резолюция Екатерины II была вполне однозначна: «Ее императорское величество высочайше указать соизволила, дабы объявлено было евреям, что незаконным их поведением они сами причиною сделанного запрещения». Таким образом, мы можем обнаружить трансформацию личностного подхода монарха к социокультурной образности еврейства под воздействием распространенных, многократно ретранслируемых по различным социальным каналам «вирусных» стереотипов.
Вторичный раздел Речи Посполитой от 1793 г. поспособствовал значительному численному увеличению еврейства в составе Российской империи – теперь число еврейских подданных увеличилось до 500 тыс. человек. Однако это никоим образом ни повлияло на изменение из статуса, а черта оседлости не только не была отменена, но и расширилась исключительно в направлении вновь присоединенных земель. Таким образом, примерно где-то к концу XVIII столетия оформился тот территориально-правовой феномен, который в отечественной историографии еврейства известен как «черта оседлости».
В начале XIX столетия было инициировано создание специального Еврейского комитета, в задачи которого вменялся регламент «внутренних дел» еврейских подданных Российской империи, а кроме того, принятие ключевых решений по веховым направлениям «еврейского вопроса». Активным сторонником работы этого комитета выступал Г.Р. Державин, занимавший, к слову сказать, частично радикальную и предвзятую позицию в отношении еврейства; напротив, довольно-таки снисходительную и умеренную позицию занимал один из видных деятелей александровской эпохи М.М. Сперанский. Так, в частности, в специальной докладной записке, адресованной членам комитета перед самым первым заседанием, сановник писал: «Преобразования, производимые властью правительства, вообще не прочны и особенно в тех случаях не надежны, когда власть сия должна бороться со столетними навыками. Посему лучше и надежнее вести евреев к совершенству, отворяя только пути к собственной их пользе, надзирая издалека за движениями их и удаляя все, что с дороги сей совратить их может, не употребляя никакой власти, не назначая никаких особых заведений, не действуя вместо них, но раскрывая только собственную их деятельность. Сколь можно менее запрещений, сколь можно более свободы – вот простые стихии всякого устройства в обществе». Таким образом, сошлись две достаточно противоположные тенденции по отношению к еврейству.
В итоге, одним из главных результатов деятельности данного комитета стало проектирование Положение декабря 1804 г., которое, по сути, установило особый режим пребывания еврейского сегмента населения на территории Российской империи.
В частности, указанными положениями, в ряде некоторых пунктов оговаривалось проживание евреев только на тех землях, откуда они происходили родом; исключение составлялось разве что для евреев-мастеров, которым дозволялось переселение в черноземные районы (Новороссия) для освоения и колонизации последней. Присоединение в 1812 г. Бессарабии, с проживавшим там контингентом еврейского населения, негативно сказалось для последних – были введены гораздо более жесткие социально-правовые ограничения, чем для еврейства, проживавшего на территории Белоруссии и Украины.
В частности, бессарабские евреи не могли занимать чиновные должности, равно как и состоять на армейской службе, приобретать крупные земельные наделы, заниматься откупом винной торговли и т.д. Преимущественное пребывание евреев во внутренних губерниях России было минимальным, в основном это были семьи, оседавшие еще со времен существования Речи Посполитой на территории Смоленска и его окрестностей. Также, случались и спонтанные случае заселения еврейством ряда внутренних территорий, например, новгородской губернии: «у вдовы Дахловской живет еврей Соломон, к которому с разных мест съезжаются евреи и производят торг, заводят еврейские школы и даже имеют по их званию каких-то резничьих ….
Дума делает постановление выслать евреев, о чем просит городничего». В целом, следует отметить, что в основном наибольшие социально- экономические потери несло еврейское купечество, которое теряло просто астрономические рынки сбыта.
Однако, по резонной логике самодержавного правительства, было бы недопустимым разрешение частичного переезда купцов еврейства с семьями, поскольку, вслед за этим, за ними неизбежно бы потянулся весь «штат» других профессий (забойщики скота по Кашруту, раввины, преподаватели еврейских религиозных школ), и по сути это бы означало переселение и освоение евреями данной территории. Тем не менее, начиная с XIX столетия, для некоторых регионов «черт оседлости» и ряда еврейских профессий (книгоиздатели, ювелиры) создавались частичные возможности для временного или перманентного оставления указанных мест.
Зачастую практиковались коррупционные схемы, где евреи условно переписывались в более благоприятные, по их мнению, регионы, или там, где они могли получить выгоду и поправить свои коммерческие дела. Также, можно было путешествовать, но при наличии специальных паспортов, получение которых происходило лично у губернатора местности, к которой был приписан еврей. С другой стороны, пребывание евреев в местах оседлости служило своего рода механизмом социальной защиты евреев от негативного воздействия со стороны тех категорий российского общества, которые предвзято относились к еврейскому населению.
Кроме того, очевидным было стремление удерживать довольно предприимчивый и высокоэффективный в освоении экономически запущенных территории этнос для достижения высоких показателей торгово-промышленной продуктивности вновь присвоенных регионов – открытии новых производств и торговых точек, распространении купеческой «сети» и т.д. Таким образом, происходило некое «оживление» западных окраин империи, поддержание их в порядке и на уровне, соответствующем западноевропейскому – что делало эти территории своего рода «витриной» общественной жизни Российской империи. Таким образом, складывалось уникальное «оседлое» пространство ментальности и социально-правовых паттернов еврейства. Дж. Клиер в данном отношении указывает: «Надо отметить, что евреи не были пассивными наблюдателями этого процесса.
Они занимали прочное положение в экономической жизни Речи Посполитой и понимали, что любые изменения в стране непременно должны отражаться на этом положении. Евреи в лице своих представителей, избиравшихся общиной, издавна научились отстаивать свои интересы перед польской бюрократией и не без успеха продолжали делать это, когда на смену полякам пришли русские. Несмотря на то, что русские власти разработали множество различных реформ (как общегосударственного, так и местного масштаба), направленных на изменение социально-экономической жизни евреев, лишь немногие из них увенчались успехом. И если к такому результату приводил чаще всего слишком умозрительный или поспешный характер задуманных преобразований, то отчасти заслуга предотвращения этих перемен принадлежит и самой еврейской общине с ее способностью отстаивать и продвигать свои интересы. Хотя за первые пятьдесят лет русского подданства евреи и не полностью добились того, чтобы, сообразно их всеобщему желанию, правительство не вводило у них никаких новшеств, им все-таки удалось избежать радикальных изменений в повседневной жизни, на которых настаивали некоторые реформаторы». В этом случае, можно отметить, что еврейство потенциально рассматривало возможности трансформации собственного пространства повседневности, однако делало это с позиций достаточно взвешенных и умеренных подходов, эволюцией правовой и политической системы Российской империи стремясь добиться изменения своего положения. Следует отметить, что такой подход в целом оказался успешен, поскольку, несмотря на контр реформаторский курс Александра III в конце XIX столетия уже при правлении последнего императора сложился ряд предпосылок для существенного изменения еврейством своего положения, в частности, окончательного разрушения традиций «местечковости». Однако, с другой стороны, устойчивое пребывание еврейского сегмента населения в подобных территориально-правовых рамках, а также наличие неразрешенной такой социальной организации еврейских коллективов, как кагал, социально- религиозная община, тяготение еврейства к определенной степени закрытости, делало стремления просвещенной ее части по преодолению подобного изоляционизма, если не напрасной, то во многом поспешной. Дискриминационная политика самодержавной администрации в отношении свободы расселения еврейского сегмента на протяжении почти что столетия сформировала определенные социокультурные паттерны в отношении собственных локаций, в частности, позиционирования собственного статус-кво как «закрепленной» народности, корневой этносоциальной группы. Таким образом, попытки изменения положения еврейства, предпринимаемые как правящей администрацией в начале XX столетия, так и деятелями общественного (еврейского и нееврейского) движения способствовали не только преодолению «закрепощения» еврейского населения, но и нарастанию социальной напряженности, поскольку попытки «выхода» из черты оседлости воспринимались правыми монархическими силами не иначе, как «заговор жидов».
2.3 Политико-правовой статус еврейского населения в Российской империи
Одним из первых юридических шагов самодержавного правительства в России по отношению к еврейству после раздела Речи Посполитой в 1772 г. и присоединения огромных массивов территорий, где был высок процент еврейского население, стало законодательное оформление пространства черты оседлости.
Учитывая высокую степень общественного предубеждения против еврейства, политическая элита Российской империи сама высказывала идеи о не допустимости распространения данного сегмента своих подданных на обширных землях страны, вследствие чего уже зимой 1772 г. граф З.Г. Чернышев однозначно заявил, что существует необходимость «оставить евреев со строгим наблюдением, чтоб они ни для чего в древние российские земли не въезжали, разве по делам тяжебным… и жиды торговали только в белорусских губерниях, а в Россию с товарами не входили». Особым к этому времени был социально-экономический статус еврейства.
Вместе с тем, согласно актуальному законодательству, для еврейского населения Белоруссии в конце XVIII столетия было установлено специфическое налогообложение, равно как и ряд других повинностей. Данная традиция исключительного налогообложения еврейского населения восходит к так называемому магдебурскому фискальному праву, в рамках которого выходцы семитского сегмента населения рассматривались как особая экономическая категория, подвергавшаяся двойному уровню сбора податей. Примерный уровень налогообложения, установленный для еврейских общин в конце XVIII в., был определен в 1 рубль с человека, что было необычно для «инородцев» во вновь присоединяемых территорий. Миссия по сбору данных денег возлагалась на еврейскую общину – кагал, т.е. данный подоходный налог носил распределительный характер и элемент круговой поруки.
Существовали установления финансового права, вызванные и этнорелигиозными предписаниями. К примеру, все евреи, строго соблюдая установления Кашрута, были обязаны платить так называемый «таксэ», или коробочный сбор, который на деле заменил совокупность разных «мелких» податей околорелигиозного характера, взимаемых с еврейства при проведении обрядовой деятельности. Правда, ряд мелких сборов все же имел место быть – к примеру, в условиях процедуры инициации по достижению совершеннолетия, заключения брачных обязательств, получения наиболее почетных должностей в еврейской общине (преподаватель, раввин, книжник, мясник) и проч.
При этом, следует не забывать, что весь регламент и процедура проведения сбора налога возлагалась на сами еврейские кагалы, и это вызывало злоупотребления со стороны глав последних: зачастую, реальная совокупная сумма повинностей была раздуваема ими в 2-2,5 раза, однако в основном это делалось «официально», т.е. не для собственных нужд, а для поддержания инфраструктуры еврейской общины, поскольку кагал, собирая поборы, в то же время являлся мощным элементом финансово-правовой защиты еврея – откупал последнего путем взяток от санкций юридического характера, брал на себя все риски и расходы по содержанию медицинских, образовательных и религиозных учреждений (хедер и синагога), оказывал политику прямого социального патернализма всем имущественно нестабильным категориям общины.
В 1780-х гг. произошло половинчатое снижение налогового бремени для всех белорусских сословных категорий, а также для еврей, однако в тоже время был установлен дополнительный винный сбор (50 коп. с члена кагала), что по сути, оставило экономический статус-кво еврейства примерно на том же уровне. Вскоре, в 1783 г., последовал специальный указ императрицы, вводивший отныне уравнительное состояние для всех этноконфессиональных категорий на территории Белоруссии. Тем самым принципы магдебурской фискальной правовой системы оказались денонсированы, и это самым невыгодным образом сказалось на имущественных позициях еврейства.
Как указывает исследователь данной проблемы, Е.В. Абакумова, «теперь евреи должны были судиться в сословных судах и вносить налоги – подушную подать с мещан и гильдейский сбор с купцов – напрямую в магистраты. Такая мера была вполне логичной в контексте общего курса на эмансипацию евреев, но на практике отмена общинной раскладки податей и круговой поруки оказалась невыгодной самим евреям, причем и кагальной верхушке, и бедноте». Попытки депутации еврейского населения изменить ситуацию ничем не увенчались – самодержавное правительство первоначально взяло курс на эмансипацию и интеграцию еврейского населения в общую массу своих подданных. Однако уже в конце своего правления режим Екатерины II принял ряд ограничительных мер, которые были направлены, в том числе и против еврейства. Так. В сфере финансового регулирования представителей иных конфессий была введена довольно непопулярная мера – двойное обложение повинностям со всех представителей иного конфессионального исповедания. Через два года, в рамках специального указа императрицы, Правительствующий Сенат дал разъяснение, что помимо основных поборов, на еврейство возлагается еще ряд дополнительных выплат, в том числе платы на содержание почтового сообщения, взимание денежных сборов с оборота финансового капитала (с еврейства, оказавшихся в разряде гильдейского купечества), а также в рамках наследования имуществ. Причин, побудивших самодержавие ввести столь жесткое налогообложение, равно как и поддерживать его в отношении евреев вплоть до падения монархии в 1917 г. было несколько:
üПроцедура борьбы с нараставшим в конце XVIII столетия, а также в последующие годы дефицитом бюджетных средств страны, покрытие программ внешнеполитических расходов;
üЭкономические стимулы для активизации миграционных процессов еврейства в Новороссию, ставшую перспективным проектом колонизационных мероприятий в конце XVIII – первой половине XIX в.;
üНаконец, позиция самого государства, убежденного в негативной роли еврейства для социально-экономического уровня жизни других сословий, полагавшего что профессионально-экономическая «специализация» еврейства по отношению к другим категориям граждан (ссудный процентный капитал, арендная дача земли) выступают способами «ограбления» иных сословий.
Все вышеперечисленное, в тоже время, порождало серьезные возмущения со стороны еврейского сегмента населения. Как отмечают специалисты, «евреи оказались единственным иноверческим меньшинством, обремененным этим налогом», и это провоцировало постепенное выстраивание политики социального (а в XIX столетии – и политического) саботажа со стороны кагалов в отношении самодержавного правительства . Однако данное замечание не совсем корректно и справедливо, поскольку в данный социально-правовой тренд дискриминации со стороны государства был заложен не этнический, а религиозный принцип. Все представители нелояльных религии, по мнению имперской администрации, должны были испытывать на себе воздействие своеобразных экономических санкций, и к слову сказать, раскольники староверы испытывали на себе гораздо больший фискально-налоговый гнет, установившийся еще со времен правления Алексея Михайловича, и значительно подкрепленный эпохой правления Петра Великого. Как известно, и староверы, и еврейские кагалы ощутили окончательное, а не эфемерное послабление своего дискриминируемого положения в финансовом отношении в государстве только уже к началу XX столетия. Дореволюционный исследователь проблемы И.Г. Оршанский, характеризуя данную проблему, в частности отмечает: «Продолжительные гонения на известный класс людей за его религиозные убеждения имеют своим последствием то, что религиозная община превращается в гражданскую, в социально-экономическую единицу.
…Вместе с тем является и усиливается вражда к гнетущему окружающему миру и стремление преследовать во всем одни узкие интересы данной общины, нередко во вред остальному населению» . Тем не менее, довольно значительная часть исследователей, характеризуя устоявшийся финансово- правовой статус еврейства, выражает частичное недоумение исходными причинностями такой позиции самодержавия.
Так, например, Е.В. Абакумова довольно справедливо указывает на ряд «несостыковок» в устоявшихся традициях объяснения причин столь жесткой позиции имперской администрации к еврейству: «Если государству необходимо было пополнить казну, то нерационально было делать это за счет именно евреев, поскольку русское еврейство в тот период, по признанию даже правительственных чиновников, было в массе своего совершенно нищим в отличие от сравнительно более обеспеченных горожан-христиан.
Если ставилась цель заселить степи Причерноморья, целесообразнее было бы стимулировать к переселению представителей тех народов, которые, в отличие от евреев, были знакомы с земледелием. Если подать была введена по аналогии с раскольниками, то логика правительства опять же неясна: старообрядцев таким образом хотели поощрить к переходу в господствующую Церковь, а миссионерских усилий в отношении евреев в этот период совершенно не предпринималось. Если же повышение налогов было «наказанием» для евреев, назначенным из соображений антисемитизма, то неясно, почему этот антисемитизм не проявлялся в предыдущие два десятилетия». Таким образом, в данном отношении к настоящему времени продолжают отсутствовать достаточно четкое объяснение дискриминационной фискальной политики правительства имперской России в отношении еврейского кагала.
В конце XVIII столетия был также установлен специальный правовой статус еврейства в отношении несения воинских обязанностей. В частности, в отношении еврейства, согласно положениям указа от 1783 г., несение рекрутской повинности было заменено для членов еврейских кагалов заменой в виде денежных выплат; размер выплат устанавливался специальным финансово-правовым регламентом, и был установлен поистине «изматывающий» размер налога – порядка 350, а позднее 500 рублей за каждую рекрутскую голову.
К слову сказать, точно такое же состояние позиционировалось для гильдейского купечества, поскольку в отношении последнего правительство исходило из позиций выгод торгово-промышленного развития государства. Для еврейства же данное установление играло роль исключительно негативного фактора: для многих бедных евреев служба в императорской армии могла бы послужить прекрасным каналом социальной мобильности, позволившей бы им выйти из состояния нищеты и угнетенного положения. Следует кстати заметить, что для многих европейских держав XVIII – начала XX столетия подобная позиция была более чем распространена в практике дискриминационных мероприятий еврейства. Однако следует осознавать, что данная позиция правительства была вызвана не столько желанием «насолить» еврейскому населению из каких-либо юдофобских позиций, сколько распространенным в целом стереотипе, идущем со времени Средних веков, о недостаточно высоком боевом потенциале еврейства: «существовало убеждение, что евреи трусливы по натуре, что по субботам они воевать ни за что не станут и что их специфические обычаи невозможно успешно сочетать с воинской службой». Таким образом, по основным указанным статусно-правовым позициям, дискриминация еврейского населения имела место быть ввиду скорее распространенных в обществе мифологем, зачастую заимствованных и привнесенных из европейской социальной практике, нежели распространившейся в результате собственного социокультурного опыта коммуникации.
2.4 Характеристика механизмов социальных лифтов для еврейства
В отношении образовательной политики еврейского населения в период имперской России сложилась устойчивая тенденция к проведение взаимообратной ассимиляции последних.
Это диктовалось политико- административными позициями правительства, видевшего необходимость в устранении социальных барьеров между еврейством и остальным, преимущественно христианских населением страны. Такой подход поддерживали не только российские чиновники, но и различные представителе просветительских течений внутри кагалов (маскилим), которые считали, что это поспособствует снижению степени дискриминации еврейского сегмента населения.
Тем не менее, с момента присоединения территорий Белоруссии в 1772 г. и вплоть до начала XIX столетия, несмотря на обилие реформ в отношении еврейства, так называемых «еврейских проектов», какой-либо существенной регламентации со стороны государственной власти сделано не было, еврейство воспринималось как образовательно «выпавшая» категория, из числа остальных подданных. Только с проведением реформы образования указом Александра I от 1804 г. и принятию же в этом году «Положения о евреях» еврейство было охвачено образовательным патернализмом со стороны самодержавия. Ряд исследователей с высокой долей скептицизма заявляют, что данная позиция была стремлением «борьбе с евреями придать характер заботы о них».
Однако такой подход был не совсем справедлив, поскольку сложно говорить о наличии какого-либо «коварного» антисемитского умысла в отношении еврейства. Правительство молодого Александра I на самом делет было преисполнено желания «приобщить» еврейство к «семье» европейских наций. Подобная позиция была в данном случае проявлением устойчивых социокультурных паттернов эпохи, имевших место быть даже среды просвещенных и высокообразованных мыслителей периода XVIII-XIX столетия: евреи воспринимались как «поврежденная» негативным влиянием ближневосточного «язычества» народом, который следовало «исправить» в цивилизационном отношении посредством соответствующей культурно- образовательной внутренней политики.
Положение о евреях демонстрирует проявление истинного демократизма по отношению к еврейскому населению, свидетельствуя об искреннем стремлении правительства начала XIX в. в выравнивании изначально дискриминационных препозиций в данном направлении. Так, в частности, пунктами «Положения…» указывалось, что «Никто из детей еврейских, быв в училище во время его воспитания, не должен быть ни под каким видом отвлекаем от своей религии, ни принуждаем учиться тому, что ей противно и даже несогласно с нею быть может».
В рамках положения была прописана открытость для евреев всех уровней образовательных заведений, Еврейству было разрешено полноценно получать всю необходимую совокупность образовательных «услуг», помимо этого, им также было разрешено посещать собственные образовательные учреждения, однако в данном случае имперская администрация прописала ряд ограничений, а именно:
а) обязательство самофинансирования данных школ (хедер) кагалом;
б) обязательное составление и ведения содержания образовательной программы на русском языке.
Тем не менее, следует отметить одну тонкость: «Положение…» во многом носило скорее рекомендательный характер, нежели нормативно- правовое, императивное обязательство к исполнению. Поэтому, юдофобски настроенная местная администрация трактовала ее положения в угоду своим предвзятым позициям. Так, к примеру, в одном из донесений в 1810-х гг. из Белоруссии местный управленец заявлял о нарушении Положения, в частности, о существовании еврейских школ с преимущественным ведением занятий на еврейских диалектах.
В отношении языкового образования еврейского населения сложилась парадоксальная ситуация. Для еврейства не было введено специального преподавания русского языка, равно как и других европейских языков, и это, как можно констатировать, стало весьма серьезной преградой к проведению ассимиляционных мероприятий, равно как и механизмов культурно- идеологической интеграции еврейства.
Большинство детей кагала получали образование в специализированных религиозных школах общины, где обучение велось на родных наречиях; до 80-х гг. XIX в. в общинных еврейских школах не существовало обязательного изучения русского или иного европейского языка, и это самым пагубным образом отразилось на распространении светских образовательных траекторий в отношении еврейства. В целом, характерно, что сами еврейские дельцы активно стремились не допускать распространения иноязычных практик, и посредством специальных депутаций пытались отстоять право говорения и ведения делопроизводственной и личной переписке на родных языках.
При этом, следует отметить отказ евреев изучать как русский, так и польский язык. Таким образом, несмотря на попытки имперской администрации, сами представители кагала – как его главенство, так и рядовые обыватели, вероятнее всего, со скепсисом относились к проблемам и процессам интеграции, вероятнее всего, не желая выступать как категория объединительного процесса в рамках взаимоинтеграции.
Так, к примеру, один из видных деятелей верхушки еврейства во вновь присоединенных территориях, в частности, отмечал: «предрассудки собственной нации запрещали <…> изучать все языки, кроме еврейского, и все науки, кроме Талмуда и его многочисленных комментаторов». Тем самым на лицо проявляется социальный тренд изоляционизма в ментальных установках еврейства того и последующих периодов общества Российской империи. В условиях правления Александра I существенной политики по распространению языковых практик русского языка на инородческих представителей не осуществлялось, чего не скажешь о языковой политике при последующих императорах. Даже попытки внедрения специализированной разбивки языковой подготовки, с учетом региона, предоставление права выбора языковой направленности своего обучения, где был предложен и польский, и немецкий, и французский языки, вкупе с русским, все равно встречались со стойким равнодушием еврейством. Так, И.Г. Оршанский, характеризуя сложившееся в первой половине XIX в. положение в данной сфере, резюмирует: «в сущности было равно совершенному остракизму русского языка из еврейской среды». Попытки столь явственного «навязывания»
имперской администрацией русского языка еврейскому населению были вполне объяснимы с прагматической точки зрения требований внутренней политики: существовала насущная необходимость организации социально- политического и правового контроля над деятельностью еврейского населения, который невозможно было бы осуществлять при наличии существующих ограничительных факторах, имевших место быть при игнорировании еврейскими купцами своего языкового образования.
Что касается проблемного поля еврейства в рамках высшего образования дореволюционной России, что здесь следует отметить один существенный фактор: мощной, пусть и во многом условно-формальной преградой для получения евреями образования высшей ступени выступало наличие обязательственной присяги религиозного характера, которая, в свою очередь, противоречила ментальным препозициям и ценностям выходцев из кагала. Тем не менее, «Положение…» активно поощряло стремление еврейства получать образование в условиях светских высших учебных заведениях.
С другой стороны, были и вполне обоснованные социальные причины со стороны евреев игнорировать получение высшего светского образования. В рамках «Положения…» 1804 г. не было прописано никаких позитивных санкций и той совокупности социальных льгот и положительных факторов, которые получали выпускники вузов в рамках высшего образования. Лишь вторая редакция данного регламента от 1835 г. прописала гражданские преимущества для еврейства при получении образования, но даже и в этом случае фактическое их исполнение начало осуществляться лишь с середины XIX столетия. До этого же, многие позитивные аспекты социально-статусного характера для выходцев из кагала оказывались недозволительной роскошью. Так, в частности, многим выпускникам вузов отказывали в получении ученой степени, находя для этого немало причин, как в университетских уставах, так и напрямую косвенных оговорок. Согласно законодательству Российской империи, лица, получающие или уже получившие высшее образование освобождались от выплаты практически всех податей, и когда ряд высших учебных заведений обратился к министру финансов со специализированным ходатайством об отмене подобных сборов в отношении их студентов еврейского происхождения в 1819 г., тот в свою очередь решительно заявил:
«Касательно обучающихся в Виленском университете студентов из евреев, состоящих в подушном окладе, ответствую, что желающим из них ныне же принять христианство ничто не препятствует привести в действо такое благое и душеспасительное намерение их». По сути, это означало завуалированный отказ.
Длительное время над школами еврейской религиозной направленности, инициируемых кагалами, отсутствовало какое-либо проявление социально- правового контроля со стороны имперской администрации. По сути, все учебные заведения низшего и среднего звена до 1820-1830-х гг. находились под формальным контролем и регламентацией региональных вузов, однако уже в середине 20-х гг. XIX в. самодержавное правительство предпринимает попытку организации гражданского чиновного контроля над деятельностью данных религиозных учебных заведений.
Попытка объяснялась, в том числе, стремлением имперской администрации обеспечить контроль над притоком в еврейские школы качественного педагогического персонала, в частности, для этого предполагалось создать специальную комиссию чиновников, в обязанности которых входил бы жесткий контроль уровня знаний преподавательского состава, проверка уровня и качества образовательной программы, а главное, способность еврейских школ готовить своих учеников к последующему переходу в светские заведения и получению образования и знаний не из еврейской среды.
Вследствие этого, уже с 1830-х гг. началась политика по жесткому вмешательству в образовательную парадигму еврейских религиозных школ, а имперское чиновничество стало навязывать кагалу свое видение образовательных норм; тем самым, именно с этого момента было положено начало явных русификаторских тенденций в образовании, продолжившееся в практически неизменном виде до падения самодержавной системы.
Глава 3. Структура образности еврейского населения в контексте восприятия социальными категориями Российской империи
3.1 Восприятие еврейства управленческой элитой Российской империи в контексте правотворческой деятельности
Среди наиболее болезненных вопросов общественного развития, стоявших перед политическим истеблишментом Российской империи XVIII – начала XX столетия, наряду с аграрным и рабочим вопросов, выступал еврейский вопрос. Ввиду довольно специфичного получения еврейства в качестве подданных страны, их социально-правовой статус-кво оказался подвешенным в воздухе, что весьма негативно воздействовало на социальную обстановку в стране.
Попытка удержать еврейство правовыми методами в «черте оседлости» приводила как к изоляционизму еврейской стороны по отношению к российскому обществу, так и укреплению социокультурных легенд в обывательских массах о наличии некоего «еврейского заговора».
В такой ситуации правительство, пребывая в позиции между двух существенных социальных сил, вынуждено было лавировать, с одной стороны, потворствуя интересам широких слоев российского общества, опасливо относившихся к еврейскому контингенту, да еще и не желавшему воспринимать их в качестве своих потенциальных конкурентов в различных социально-экономических нишах, так и в отношении еврейства, которое, несмотря ни на что, являлось такими же подданными Российской империи и также требовало разрешения всех своих насущных проблем наряду с другими слоями социума.
В итоге, политика управленческой элиты страны на протяжении XIX столетия характеризовалась колебаниями, метаниями, противоречивостью и непоследовательностью.
Этому способствовало еще два фактора:
а) наследование подобного стиля управленческой культуры и политико-правовых моделей в отношении еврейства еще от традиций Речи Посполитой;
б) личностный фактор российских монархов, который оказывал существенное влияние на всю внутреннюю политику: так, либерально настроенные по отношению к евреям и инородцам в целом Александр I и Александр II сменялись относительно реакционными Николаем I и Александром III.
В итоге самым преобладающим в рамках правовых моделей самодержавного правительства стала реализация ограничительных и запретительных методов в практике управления еврейским сегментом населения. В частности, политический истеблишмент Российской империи с периодичностью через поколение готов был принимать пакет законопроектов, в той или иной мере препятствующий нормальному осуществлению еврейской стороной своих социально-бытовых и повседневностных дел и функционала.
Так, к примеру, особенно в этом отношении «отметилось» правление «контрреформатора» Александра III. В.В. Егоров, характеризуя, чем в совокупности обернулось для еврейства правление одного из последних императоров, писал примерно следующее: «Реакционные преобразования, которые негативно повлияли на жизнь евреев в сферах здравоохранения, образования и экономической деятельности. Сегрегация, вызванная реакционными преобразованиями и во многом спровоцировавшая агрессию большинства нееврейского населения (великорусы, малороссы, поляки и др.) в отношении еврейского населения империи, привела к еврейским погромам.
Важно отметить, что погромы привели к эмиграции еврейского населения Российской империи в США и Великобританию, что в значительной степени усилило политическую, экономическую и культурную мощь зарубежных держав.
Таким образом, есть все основания говорить о дискриминации еврейского населения в период правления Александра III, во многом приведшей к ослаблению экономической и культурной сферы Российской империи».
Такая позиция монарха по отношению к еврейству имела свои, почти что личностные корни – Александр III подозревал практически все еврейство в участии в революционных кружках и заговорах. Не последнюю роль, полагал «царь-миротворец» сыграло и вероятное участие еврейства в организации покушения на Александра II. Тем самым формировался общественно-политический дискурс негласной поддержки негативного отношения к еврейству в отношении монарха и его окружения, а также «закручивании гаек» при решении еврейской проблемы.
Остается открытым вопрос об участии среднего и высшего чиновничества в организации и поддержке черносотенного движения, и уж тем более неясна степень его участия в организации черносотенцами расправы над евреями, антисемитской пропаганды, инициировании ритуальных процессов и массовых погромов.
С другой стороны, примечателен следующий факт. Когда в 1911 г. в Киеве произошло резонансное убийство П.А. Столыпина, практически сразу зашли разговоры об еврейском происхождении его убийцы Богрова. Как и всегда происходило в российской истории имперского периода, подобные слухи и рассуждения были тихой «прелюдией» к последующим кровавым событиям погромов, как это было с кончиной царя в 1881 г. И только активные действия и вмешательство министра В.А. Коковцова, а также ряда высших чиновников уберегло центр Украины от готовящейся развернуться кровавой драмы.
Таким образом, вполне очевиден факт явного недопущения правящими кругами злоупотреблений и инсинуаций в отношении еврейства, только лишь из причин политических подозрений. Это тем более удивительно, учитывая характерную для самодержавия тенденцию к сыску в определенных категориях общества только лишь при наличии малейших необоснованных подозрений.
В конечном счете, стремление черносотенных организаций к устроению массированных программ весьма сильно расшатывало «политическую лодку». Примечательно и следующее: «Идейно-религиозные препятствия для проведения массовых кровопролитий. Существенную роль для неприменения насильственных действий в отношении еврейского населения играли религиозные препятствия, связанные с несовместимостью с христианской традицией, нравственной ущербностью и несвоевременностью в связи с отступлением революции. Об этом лидеры крайне правых делали многочисленные заявления как в программных документах, так и в периодической печати.
Именно на эту сторону делался акцент в избирательной программе СРН, распространенной в сентябре 1906 г.: «Русский народ… имея полную возможность, пользуясь своим правом хозяина земли русской, мог бы в течение одного дня подавить преступные желания евреев и заставить их преклониться пред его волей, пред волей державного хозяина земли русской, но, руководясь высшими задачами христианского вероучения и слишком сознавая свою силу для того, чтобы отвечать им насилием, избрал другой путь для решения еврейского вопроса, являющегося одинаково роковым вопросом для всех цивилизованных народов».
Таким образом, как можно обнаружить, риторика черносотенного движения в частности апеллировала не только к националистическим, но и религиозным тенденциям, а также действовала в рамках затрагивания и увязывания проблем с еврейством основных актуальным для общества того периода вопросов – «аграрного» и «рабочего».
В конечном счете, неприятие подобных подходов характеризовало широкие массы либерально настроенного населения, в первую очередь интеллектуалов.
Характеризуя позицию политического истеблишмента, следует указать и политически активные интеллигентские и интеллектуальные круги, которые стремились обеспечить максимально взвешенное разрешение еврейского вопроса.
В частности, особую позицию в данном вопросе заняли специалисты по гебраизму, то есть научному направлению, занимавшемуся изучением истории, культуры, традиций еврейства. Весьма видным представителем в данном направлении выступал профессор Д.А. Хвальсон, который одним из первых попытался изменить существующие социокультурные негативистские паттерны в более адекватную и объективную сторону.
В частности, в своей научной и преподавательской практике Хвальсон начал выстраивать логичные концептуальные построения, основанные на его собственных переводах Библии, иных экзегетических текста, и в рамках данной деятельности инициировал соответствующий научный и общественно-политический дискурс, способствуя смягчению и пересмотру социальных стереотипов в отношении еврейства.
В частности, Хвальсон опубликовал ряд трудов, лейтмотивом которых было научное и доказательно обоснованное опровержение участия евреев в кровавых ритуалах, равно как и в иных «злокозненных» инсинуациях против христиан.
Таким образом, в результате деятельности данного публициста и ученого, стал, к примеру, возможен достаточно взвешенный подход в проведении юридического процесса по делу Менахема Бейлиса. Как преподаватель, Хвальсон подготовил значительную массу учеников- гебраистов, многие их которых приняли участие в вышеуказанном процессе.
Касательно самого «дела Бейлиса», отметим, что сама по себе социально- политическая ангажированность данного процесса искусственно нагнеталась в том числе и местными властями.
Характерно, что существует концепция о специальном переориентировании внимания общественных масс с существующих остросоциальных проблем и противоречий в сторону нагнетания социальной ненависти и неприязни к еврейству. Так, А.Н. Назаров, характеризуя данную проблему, отмечал: «происходило разрушение привычной социальной структуры российского общества. Дворянство стремительно теряло статус привилегированного сословия.
Во время революции 1905-1907 гг. в разных регионах Российской империи крестьянами было разгромлено большое число помещичьих усадеб, а их хозяева зачастую вынуждены были спасаться бегством. Сами крестьяне перестали быть податным сословием.
В своих наказах, в массе направляемых в Государственную Думу, они требуют решить аграрный вопрос на крестьянских условиях. Более того, теперь их представители заседают в самой Думе. Поднимает голову и рабочий класс. Чрез митинги, забастовки, стачки, рабочие так же требуют обратить внимание властей на свои проблемы. Иерархическая субординация нарушена полностью. Отчаянные попытки правящей элиты предотвратить это – не удаются. В стране происходит рост преступности.
Газетные хроники пестрят сообщениями о дерзких налётах и ограблениях, жестоких убийствах». В итоге российский позднеимперский политический истеблишмент, потеряв возможность инициировать «маленькую победоносную войну» в виде русско-японского конфликта 1904-1905 гг., решил частично разыграть карту межнациональный противоречий и через управляемый социальный конфликт «вытравить пары» разогревавшегося социального недовольства.
Вследствие этого, с другой стороны, либерально- демократическая часть политической элиты прекрасно осознавала последствия подобного заигрывания с националистическим дискурсом общественных масс и пыталась с этим всячески бороться, в первую очередь, используя просветительские методы – публикации соответствующих брошюр, деклараций, воззваний.
Тем самым возникал наличествующий интерес, с другой стороны, в аналогичной интеллектуальной продукции для формирования негативной образности евреев, со стороны праворадикального спектра политических сил, и эта тенденция также находила свой отклик.
Распространялся «черный пиар» евреев, апогеем которого стала публикация документа под название «Протоколы сионских мудрецов» – секретный план якобы существующей тайной организации или правительства еврейского кагала, в действительности являющееся подложной подделкой публициста С.А. Нилуса, православного деятеля и радикального юдофоба.
Подобные деятели религиозного движения, не только православного, но и, к примеру, католического, встречали самую широкую поддержку у черносотенного движения как создатели необходимого в информационной войне интеллектуального продукта. Вместе с тем, нарастание социальных противоречий делало невозможным сдерживать ситуацию под контролем и в скором времени социальная агрессия против евреев стала проявляться не как запланированные «мероприятия», а как акты спонтанной асоциальности
3.2 Образность еврейского населения в творческом дискурсе российской интеллигенции и интеллектуалов и ее актуализация в повсденевно-бытовом контексте
Следует отметить, что интеллектуальные и интеллигентские слои общества не обошли вниманием в своей профессиональной деятельности проблему еврейства и еврейского вопроса.
Так, в частности, еврейской проблемой по мере ее нарастания, со второй половины – последней трети XIX столетия были заинтересованы практически все видные писатели, творчески обыгрывая их в своих произведениях.
Так, в частности, Ф.М. Достоевский, в канву своего романа «Братья Карамазовы» в диалог Лизы и Алеши Карамазовой размещает подробности прецедентного на тот момент «Кутаисского дела» 1878 г., в результате которого в очередной раз подверглись гонениям евреи закавказского региона в контексте «кровавого навета». Евреи изображались в произведениях И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого, пусть и не в радикальной, но в характерной уничижительной для человека того времени словесно-объектной типизации. Зачастую, данный образ формировался под воздействием актуальных событий в жизни писателя.
Особо видное место в тематике еврейской проблемы, отражаемой в художественных произведениях писателей и публицистов, составляют реалии еврейских погромов.
Так, в частности, особо тщательному описании подвергся Кишиневский погром 1903 г., поскольку представлял собой один из наиболее массовых и жестоких по отношению к еврейству погромов. Бессарабские и молдавские евреи издавна воспринимались как наиболее дискредитируемая категория еврейского населения, но даже и в этом случае расправа над местным населением была чрезвычайно жестока.
Свое художественное описание данных событий оставили журналисты и публицисты В.Г. Короленко, Х.Н. Бялик, и ряд других писателей. Н.М. Гарин-Михаловский, выдающийся русский инженер, писатель и путешественник, издал книгу «Еврейский погром», в рамках которой пытался выявить ментальные основы данного социально негативного явления и с прискорбием констатировал что весьма сложно выявить истоки этого в таком, казалось бы, восприимчивом этносе с высокой долей эмпатии, как русский народ.
Следует отметить, что реакция Святейшего Синода, а также отдельных деятелей православия была более чем категоричной и негативной по отношению к данному событию. Так, Св. Иоанн Кронштадский, характеризуя произошедшее, писал, в частности: «Прочел я в одной из газет прискорбное известие о насилии христиан кишиневских над евреями, побоях и убийствах, разгроме их домов и лавок, и не мог надивиться этому из ряда вон выходящему событию.
Помню, что было подобное событие в 1881 году, на юге России, но в гораздо меньшей силе и остроте, и было следствием пагубных увлечений и заблуждений.
А теперь, что породило это, потрясающее до глубины души, буйство христианского русского народа, который, вообще, отличается простотой и добротой? Сильно чувствуется воздействие извне злонамеренных людей, подстрекнувших наш народ к такому небывалому погрому. Сердце царя, пекущегося об общем благе и спокойствии народа и о правильном течении жизни государства, особенно скорбит об этом ужасном кровавом происшествии». Примерно такая же позиция была и у многих других неэкзальтированных представителей православного духовенства.
Следует более подробно охарактеризовать явление еврейских погромов как практики. В целом, укоренение подобной юдофобской практики произошло в российской действительности дореволюционного периода лишь в XIX столетии. До этого, наиболее известным задокументированным антисемитским погромом было восстание против ростовщиков и «резальщиков» (сборщиков процентов – «рез») в 1113 г. в Киеве, и характеризовалось оно вполне очевидными и объективными социально-экономическими причинами.
После этого, и вплоть до конца XVIII столетие устроение подобных социальных акций широкими массами населения было невозможно ввиду минимального присутствия еврейского сегмента населения на территории Российской империи. Ситуация значительным образом изменилась в условиях присоединения территорий Речи Посполитой – в итоге к началу XIX столетия число евреев, проживавших в черте оседлости, стало насчитывать порядка 700 тыс. человек.
Естественно, что их экономическая активность, а также одна из характерных черт семитской ментальности – предприимчивость, не могла не вызвать недовольства со стороны широких слоев российского «коренного» населения. Это способствовало практике негативного восприятия последних. В итоге стали укреплять негативные мифологемы, подкрепляемые практикой религиозного сознания.
Видение в иудаизме конкурента в обретении паствы, ряд одиозных деятелей православной церкви – теологов, рядовых священников – начали распространять идеи неприязни к последним, способствуя распространению изначально католического социокультурного стереотипа о «кровавом навете» в отношении еврейства. Характеризуя данное явление А. Панченко, в частности, отмечает: «исторической перспективе «кровавый навет» в отношении сектантов и евреев не обладает единой и устойчивой семантикой. Скорее стоит говорить о его «миметической адаптивности», позволяющей вполне успешно транслировать и формировать разные социальные смыслы.
Смыслы эти, однако, тем или иным образом связаны с представлениями о воображаемых угрозах, которые таит в себе «чужая» и «еретическая» религиозность.
Иными словами, легенда о ритуальном убийстве оказывается чрезвычайно живучим «культурным вирусом», сопровождающим конструирование «негативных репутаций» в религиозной сфере. К сожалению, приходится признать, что именно эта сфера оказывается средоточием наиболее «вредоносных» и «зловещих» форм и способов социальной стигматизации, ведущих, в свою очередь, к уже не воображаемым, а вполне реальным страданиям, крови и насилию».
Таким образом, формировалась идея о некой изначальной злонамеренности еврейского населения как «чужого» элемента, его направленности на деструктивные наклонности. В таком случае, еврейские погромы можно определить как явный механизм деструктивной коллективной психической самозащиты, выступающей в данном случае реакцией на некую общественную «угрозу».
Свою позицию играло и соответствующее интеллектуальное пространство: «О факторах, вызывавших общественное внимание к кровавому навету в этот период, можно рассуждать довольно долго.
Здесь и ритуальные процессы середины века, и увеличение числа евреев, обитавших и работавших вне черты оседлости.
Среди одиозных трудов особенно выделяется книга И.И. Лютостанского Вопрос об употреблении евреями-сектаторами христианской крови для религиозных целей в связи с вопросом об отношениях еврейства к христианству вообще (1876), основанная на тексте Розыскания…. Как уже было сказано в начале работы, не исключено, что именно эту книгу имеет в виду героиня Братьев Карамазовых. Добавлю, что текстологические, риторические и, так сказать, экспрессивные особенности подобных квазиэтнографических текстов, а также их влияние на литературу и идеологию в России конца XIX – начала XX вв. . Это провоцировало остросоциальный дискурс в российском обществе позднеимперского периода.
Одним из первых еврейских погромов стал погром на известной еврейской «родине» в СНГ – в Одессе в 1821 г. Данный погром произошел несмотря на строжайший запрет императора Александра I в 1817 г. об муссировании слухов в отношении кровавого навета, равно как и любых иных попыток проявления социальной неприязни по отношению к еврейству. На сей раз инициатором выступил не столько русский, сколько греко-католический сегмент населения в Одессе – внезапная кончина Стамбульского патриарха Григорий вызвала массу инсинуаций на тему злонамеренного его убийства еврейством.
Погром закончился достаточно бурным уничтожением инфраструктуры, что в очередной раз подвигло имперскую администрацию задуматься над недопустимостью и пресечение подобных инцидентов впредь, равно как и объективном разрешении еврейской проблемы.
Кроме того, далеко не все рядовые обыватели были настроены негативно в отношении еврейства, сложился достаточно мощный пласт «общественных защитников» еврейства, кроме того, свою существенную лепту вносили и интеллектуалы.
Так, в частности, Н.П. Карабчевский активно разрабатывал позицию правовой обороны пострадавших в результате погромных действий евреев и требовал крайне жестких, но справедливых и разумных санкций в отношении участников данных погромных действий. Так, в своей речи на юридическом процессе, Карабческий, в частности, заявил: «якобы из Николаева пришла телеграмма -«бить жидов».
Официальное разрешение на это было якобы дано каким-то генералом Сомовым. Наивная версия, не лишенная своей ужасной поучительности. Мне самому в дни первой молодости здесь же, в Николаеве, случилось слышать о "невинных шутках", проделывавшихся так называемыми господами над беззащитными евреями.
Старикам-евреям припечатывали к столу бороды, предварительно скрутив им назад руки и накормив их рвотным порошком. Конечно, нравы несколько смягчились. Боюсь, не приняли ли они лишь более мягкие формы, оставаясь по существу столь же возмутительными. Начиная с восьмидесятых годов общий упадок наших нравственных и общественных идеалов отразился и на еврейском вопросе.
В этом, и ни в чем ином, без сомнения, следует искать причины той развязной беззастенчивости, с которой пренебрежительное отношение к евреям и слово «жид» пестрят и на страницах газет известного сорта, слышатся и на улицах и даже в общественных собраниях публично. Явление совершенно невозможное в лучшие годы расцвета общественной мысли и человеческого духа… Оно возможно теперь! Мы, по-видимому, забываем, что, составляя собой верхний слой общественной среды, мы пропускаем в подпочву, т. е. в среду этих безграмотных людей, всю умственную муть, все нравственные миазмы нашей среды. Им одним за наш же первородный грех приходится тяжко расплачиваться».
Следует сказать, что подобная позиция в среде либеральной интеллигенции была далеко не единичной, и к указанному времени стала иметь широко распространенное хождение в обществе.
Причиной этого служило распространение в результате либеральных реформ 1860-1870-х гг. системы средних и высших образовательных учреждений, в целом способствовавших развитию образованности на территории Российской империи.
В тоже время, подавляющий процент населения все равно находился на низком уровне образовательных ступеней, и это тоже в свою очередь играло не самую последнюю роль в восприятии и позиционировании проблем еврейства в данной ситуации.
Негативизирующим фактором в образности еврейства в повседневности выступала также «черная сотня», которая стремясь заработать «политические очки», активно манипулировала «еврейской темой», разжигая массовые недовольства и пытаясь использовать их как возглавляемую социальную силу.
3.3 Трансформации традиции «кровавого навета» в восприятии еврейства
Наиболее радикальной формой восприятия еврейской образности в реалиях как западноевропейского, так и российского общества выступало распространении версии «кровавых наветов». В частности, в обществе Российской империи в течение XIX столетия особое распространение получили так называемые «ритуальные процессы».
Это общественное явление является довольно-таки специфичной формой организации юридического процесса, основанного на социокультурных паттернах, мифологемах и стереотипах религиозной сферы. Характеризуя данное явление, исследователь В.В. Хасин, в частности, отмечает: «ритуальные процессы в любом случае являются частью религиозных отношений… вся религиозная система состоит из константных и консервативных социальных институтов, с одной стороны, и индивидуального религиозного опыта – с другой».
В процессе реализации духовных потребностей человека, зачастую, депривации подвергаются другие сферы его жизнедеятельности, а также уровни ментальности, и в целом данный процесс в итоге приобретает достаточно деструктивных характер для индивида.
Парадоксальным образом, своеобразие восприятия пространства «сакрального», своего или чужого, нередко носит в себе отпечаток воздействия личностных травм или же установок государственной политики.
В частности, исследователь А. Панченко, характеризуя исходные причины возникновения кровавого навета в Российской действительности, отмечает в частности, что «Семантика и психологические корни легенды о ритуальном убийстве неоднократно обсуждались учеными, зачастую, правда, – в связи с историей антисемитизма.
Так, по предположению известного американского фольклориста А. Дандеса, «кровавый навет» в отношении евреев является проекцией бессознательного чувства вины, вызываемого у христиан евхаристией и ее культурно-историческими ассоциациями. Вероятно, структура сюжета о еврейском ритуальном убийстве в той или иной степени действительно обусловлена «ритуальными страхами», связанными с евхаристией.
Вместе с тем реальные функции отдельных типов этой легенды могут существенно различаться в зависимости от социально-исторического контекста. В Западной Европе позднего Средневековья и раннего Нового времени распространение легенд о еврейском ритуальном убийстве могло быть обусловлено не только ненавистью к евреям, но и потребностями местных общин в новых святынях.
Места, где погибли или были похоронены якобы убитые евреями дети, их гробницы и тела, даже сами орудия убийства становились сакральными центрами новых культов, приобретая подчас широкую известность и большое влияние. Таким образом, «кровавый навет» здесь был связан со специфическими процессами «производства сакрального», составлявшими важную часть массовой религиозной культуры».
Таким образом, налицо попытка произведения новых сакральных культов, вызванных, например, деформацией личности родственников погибшего, и вызывающей соответствующие трансформации личностного социокультурного пространства.
В данном случае подобные форму культовости для сознания виктимизированного трагическим событием индивида имеет терапевтический эффект. В частности, достаточно широко известен феномен культа «святого Вячеслава» в новейшей истории России, эпизод социальной истории, когда мать скончавшегося в результате длительной болезни ребенка, В. Крашенинникова в 1993 г., трансформировала при поддержке одиозного деятеля РПЦ личное горе в религиозный культ, носящий в том числе и коммерческий характер; данная ситуация нередко подвергалась критике со стороны официального представительства РПЦ.
Характерно, что аналогичный пример имеется и в практике гонения на еврейство в результате «кровавого навета», а именно культ Гавриила Белостокского, ребенка, якобы зверски замученного представителями иудейства в своих ритуальных целях. Данный сюжет религиозной истории страны имеет как своих апологетов, так и противников, более того, существует мощная критика самой идеи почитания данного канона в условиях существования кровавого навета на еврейство.
В данном контексте ритуальный процесс является специфичной формой религиозной практики, направленной на защиту и обособление институций религиозной сферы от воздействия «чужеродных» элементов, а также своего рода санирующей «процедурой».
Возникновение на данной основе специфических мифологем способствует конституированию негативного социально-религиозного опыта и его вычленения для последующей агрессивной асоциальной деятельности в процессе осуществления индивидом обрядовой составляющей религиозного культа. Зачастую «спусковым механизмом» служили и социально-политические конфликты двух «конкурирующих» этничностей. Так, например, в ходе Отечественной войны 1812 г. сложилось своеобразное «фронтовое» распределение: польский сегмент населения выступал на стороне «Великой армии» Наполеона, в то время как еврейский поддержал русскую армию.
В дальнейшем это сыграло не самую последнюю роль в распространении в общественной среде российского общества середины 1810-х гг. едва ли не панических слухов, провоцировавших недовольства населения в отношении еврейства и обвинявшего его в практике кровавых обрядов.
Были и другие воздействующие факторы. Так, фактический имперский «куратор» Царства граф Н. Новосильцев, желая поспособствовать развитию социальных институций региона, разработал специальных проект гражданской направленности, который бы позволил уравнять еврейский сегмент населения в правах со всеми остальными категориями населения, разрешил бы в их повседневной практике значительную степень социально- экономической правоспособности.
Все это значительно простимулировало бы хозяйственную жизнь данного региона. Однако у проекта оказался ряд мощных противников, в том числе А. Чарторыйский и местный влиятельный ксендз А. Сташиц. В итоге проект был на неопределенное время заморожен из-за яростного сопротивления местного политического истеблишмента.
И словно по заказу, на территории Царства Польского вспыхнула череда обвинений различных представителей еврейского кагала в инициировании ритуальных убийств. Так, в частности, в 1816 г. было инициировано гродненское дело. Один из выкрестов (евреев, перешедших в христианство), целенаправленно заявил о необходимости человеческой (детской) крови у евреев для помазания дверных косяков в условиях празднования еврейской Пасхи.
В итоге, недавно произошедшее убийство маленькой девочки связали с данным ритуалом, и даже несмотря на заявление в результате осмотра специальной медицинской комиссией о естественном характере кончины девочки, общественное мнение было настроено на погром еврейских кагалов с целью мести и «прекращения еврейских кровавых обрядов».
Россию в течении XIX столетия потряс ряд «ритуальных процессов», основанных на идеологемах «кровавого навета». Среди наиболее резонансных выступали «велижское», «саратовское», «люцинское» дела, «дело Бейлиса», а также ряд других, менее громких дел.
Что характерно, все данные дела объединялись «приуроченностью» к каким-либо важным остросоциальным проблемам, имевшим место быть в XIX столетии, либо напрямую связаны с территориальным приростом, как присоединение в 1810-х гг. части Закавказья вызвало одно из подобных резонансных дел.
Естественно, что, как и любой юридический процесс, дела кровавого навета «подпитывались» соответствующими свидетельскими показаниями. Так, в частности, В.В. Хасин отмечает, что «свидетельские показания играют ключевую роль в понимании структуры кровавого навета и вектора его направленности. Существование любого мифа лишено глубокого внедрения в общественное сознание и соответственно жизнеспособности без четко прописанного механизма его осуществления.
С другой стороны, формирование адаптированного мифа невозможно без атрибутов и ритуалов принимающей его среды. Показания свидетелей составляют тома, а иногда и десятки томов по каждому делу. В настоящее время научно-исследовательское сообщество проработало лишь незначительную их часть по ограниченному кругу дел. Вне исследования остается большое количество вопросов, связанных с правом, государственной политикой по отношению к евреям, публицистикой и научными трудами.
Все это находилось в прямой взаимосвязи с рассматриваемыми нами сюжетами». Разумеется, что в данной ситуации не обходилось без практики применения подлогов, выбивания свидетельских показаний полицейскими чинами из подследственных, оказания психологического давления на обвиняемых, создание соответствующего эффекта психологической войны в общественном мнении и актуальном медиапространстве периода и проч.
Следует также сказать, что нередко в таких ситуациях сторона обвинения прибегала к эмоциональной «игре», словесной манипуляции в отношении сочувствующей или заинтересованной аудитории с целью ее непосредственного убеждения в виновности подследственных.
Так, в частности, в ходе расследования люцинского дела, дабы убедить председательствующих, имевших родственников и несовершеннолетних детей, сторона обвинения заявила следующее: «Вам, г. Присяжные заседатели, живущим среди еврейского населения, известно, какое сопротивление оказывают евреи, когда кто-нибудь из их единоверцев желает принять христианство; вы знаете, что таких людей приходится охранять, увозить, потому что раз попав в еврейские руки, то исчезают бесследно Еврей лучше готов увидеть своего сына или дочь в гробу, чем изменившим вере своих отцов.… Тут надо либо или лишиться сына, или нужно уничтожить христианку. Последнее выгоднее».
Тем самым была конституирована еще одна распространенная мифологема о практике неизбежной расправы над выкрестами в случае их перехода в христианство. Таким образом, создавался еще один миф на пути интегрирования еврейского сегмента в российское общество.
Характерно, что зачастую психика свидетельского «контингента» зачастую подсказывала им «необходимые» ответы в ходе расследования дела. Так, в частности, в ходе расследования «люцинского» дела выявили, что « одном из показаний свидетельница обвинения Синицына утверждала, что подсудимая Лоцова отдала ей через месяц после пропажи убитой рубашку со следами крови. А свидетельница Иванова поведала драматическую историю о евреях, которые плотоядно смотрели на Марию и приговаривали: «Кошер».
Даже при наличии, возможно, и каких-то иных мотивов в коммуникации еврейского и латгальского населения в условиях данного дела, подобная мотивировка мало того что была сомнительной, но и еще и была выполнена как исключительный случай так называемых «вложенных» показаний, то есть свидетельских заявлений, заранее обговоренных со стороной обвинения.
Таким образом, к концу XIX – началу XX столетия на территории Российской империи продолжало существовать крайне негативное восприятие еврейского сегмента, с каждым новым эпизодом ритуального процесса лишь больше и больше укрепляясь как устойчивый социальный тренд и обретя своего рода дискурсивную «развязку» в виде последовавшего в 1911 г. «дела Бейлиса».
Несмотря на усилия профессиональных гебраистов, элемента «кровавого навета» в восприятии широкими массами населения еврейства не только не исчезали, но даже нарастали в условиях кризиса.
3.4 «Дело Бейлиса» как социокультурный дискурс позднеимперского периода
Средина и более характерных и одиозных юридических процессов, апеллирующих к проблематике «кровавого навета», как социокультурного паттерна восприятия еврейства российским обществом имперского периода, следует указать так называемое «Дело Бейлиса». Данный ,казалось бы, криминальный прецедент, из-за ангажированности и парадоксальности уголовного расследования, практически в одночасье приобрел характерный политический, этнорелигиозный и остросоциальный дискурс, спровоцировав столкновение различных политических сил в обществе.
Справедливости ради следует отметить, что данная ситуация была отнюдь не уникальная в контексте развития общеевропейского исторического процесса и отношения социума европейских стран к еврейству – в данных государствах также инициировались процессе с предвзято-специфичным отношением к евреям.
В данном ключе достаточно указать пресловутое «дело Дрейфуса», расколовшее французское общество на «дрейфусаров» и «антидрейфусаров».
Ситуационный характер «дела Бейлиса» был стандартен для образности многих юридических и общественно-политических прецедентов в духе «кровавого навета»: невинно убитый христианский ребенок, обретавшийся неподалеку «кровавый еврей», обескровленность трупа и проч. Однако, существует ряд довольно специфичных факторов.
Во-первых, первоначальное подозрение пало не на Менахема Бейлиса, а на отчима мальчика, Л. Приходько, и его мать, А. Ющинскую: был выдвинут мотив коммерческой выгоды, поскольку биологический отец ребенка отписал сыну достаточно крупную сумму денег. Вскоре, в СМИ просочилась актуальная и впоследствии подтвержденная информация, что заявления и признания родственников убитого ребенка были получены при помощи пыток, силового и психологического давления в отношении последних со стороны полицейских чинов.
Подобная информация вызвала бурю негодования, как в правой общественности, так и в интеллектуальных кругах Киева. Стали активно муссироваться слухи о подкупе «еврейским кагалом» местной гражданской и полицейской администрации.
Другим, не менее важным фактором, стало притягивание косвенных мифологем, и разворачивания психологической «мини-войны» по отношению к данному дискурсу. Так, было распространено риторическое предположение о неслучайности совпадения даты убийства с празднованием еврейской Пасхи (Пейсах). Начали распространяться листовки, литографии и прокламации с репринтами фотографии убитого юноши, символикой черносотенных организаций и лозунгов экстремистского и националистического характера.
Не последнюю роль играл и специфический общественно-политический дискурс начала 1910-х гг. Исследователь А.Н. Назаров, в частности, отмечает следующее: «Однако Россия накануне Первой мировой войны пребывала в достаточно сложной морально-психологической атмосфере, что и предопределило известный нам ход процесса.
Пристальное внимание прессы к убийству подростка придало ему широкую известность за пределами Киева. К расследованию присоединились частные лица. Выдвигая собственные версии убийства, они, фактически, стали оказывать давление на следствие.
Однако наиболее радикальная версия, повлиявшая на дальнейший ход судебного разбирательства и придавшая ему широкую известность, была высказана черносотенцами». По сути, вместо юридически взвешенного (уголовно-процессуального) расследования власть в совокупности с обществом принялась за конструирование специфического дискурса, исходная форма которого должна была самым непосредственным образом повлиять на разрешение еврейского вопроса.
В частности, высказывались различные гипотезы о трансформации происходившего политико-правового процесса в дело едва ли не государственного уровня; благодаря широчайше огласке и освещению СМИ о ходе ход процесса отслеживала не только вся Российская империя, но и весь мир.
К этому времени, как ни странно, в России времен Серебряного века национализм и шовинизм оказался не только не изжит, но и приобретал порой довольно причудливые форма. Так, в частности, особую поддержку националистический дискурс получил в среде интеллгинции и интеллектуалов, особенно среди ученых и публицистов «окраинных» территорий империй.
Так, к примеру, давая реакцию на происходившие события в рамках «дела Бейлиса», а также кровавых наветов, и характеризуя в целом ситуацию с еврейством, профессор И.П. Ковалевский в характерных тонах довольно радикально рассуждал: «из всех народных групп особенного внимания заслуживают евреи… Это нация особенная – паразитная нация. Раскраплённая по всем лицу земли, она живёт кровью и лимфою тех народов, среди которых селится. Евреи национальны их религией, их богом. Их религия жестокая, человеконенавистническая, людоедская, преступная, направленная не только против благосостояния, но и против бытия и жизни целых народов и отдельныхт лиц и имущества – она освящает воровство, мошенничество, обман и грабёж».
Казалось бы, при наличии подобной позиции у ученой элиты представители православной церкви, известные своим настороженным отношение к иудаизму и еврейству в целом, должны были бы выступить активными участниками стороны обвинения Менахема Бейлиса, однако, парадоксальным образом, сложилась обратная ситуация – многие видные деятели практического богословия, в частные, протоиерей А.А. Глаголев, напротив, стремились к активной поддержке последнего, а также установлению реальных виновников произошедшего криминального преступления.
Характерно также, что ни один из представителей православной церкви не предпочел выступать в качестве религиозного консультанта стороны обвинения, и это дело было поручено некоему Иустину Пранайтису. Пранайтис являлся личностью с довольно «интересной биографией».
Католический ксендз, и активный сторонник идеологем «кровавого навета», он был распространителем юдофобских и псевдонаучных «трудов», в рамках которых силился доказать наличие изначального коварного семитского замысла. Характерно при этом, что в свое время он был учеником видного гебраиста Д.А. Хвольсона.
В свое время, ксендз был обвинен в мошенничестве и попытка шантажа и на основании этого сослан в Среднюю Азию. Став консультантом по «делу Бейлиса», Пранайтис начал активно выстраивать линию обвинения в духе характерных для его деятельности «научных изысканий».
Однако его радикальные, и почти что бредовые заявления очень быстро оказались морально денонсированы аудиторией судебного процесса. Один из полицейских чинов справедливо отмечает: «Перекрестный допрос Пранайтиса уменьшил силу доказательности аргументации его экспертизы, обнаружив незнание текстов, недостаточное знакомство с еврейской литературой. Ввиду дилетантских знаний, ненаходчивости экспертиза Пранайтиса имеет весьма малое значение. Допрошенные сегодня профессора Троицкий и Коковцов дали заключение, исключительно благоприятное для защиты, восхваляя догматы еврейской религии, не допуская даже возможности совершения ими религиозных убийств».
Однако было бы крайне неверно обвинять одного лишь И. Пранайтиса в наличие некомпетентности ряда вопросов. Те же самые гебраисты Троицкий и Коковцов, о которых столь лестно отзывается сотрудник полиции, также оказались некомпетентны в ряде вопросов, и в конечном счете конструктивная позиция стороны защиты едва не рухнула под напором обвинений.
Вообще, в целом, характерно, что впервые в практике дела в стилистике «кровавого навета» к процессу были привлечены ученые-гебраисты для выяснения и анализа подробностей, насколько и действительно ли данное убийство является проявлением ритуального акта, выполненным якобы в талмудической традиции.
Указанные гебраисты впервые в вынесении на широкую публику заявили, что, например, что излюбленное заявление об употреблении евреями в пищу крови (неважно, животного или человеческого происхождения) не только не входит в догматику Талмуда, но и напрямую ей противоречит, расцениваясь как прямое святотатство.
Таким образом, как можно обнаружить, налицо виден духовный кризис общества. Неизвестный публицист, сетуя о наличие такого кризиса, писал примерно следующее: «Если присмотреться к идейным брожениям современного нам интеллигентного сообщества и прислушаться внимательно к тем бесчисленно разнообразным голосам, которые раздаются теперь и в печати, и с кафедр, и просто в частных беседах, то мы должны будем признать, что живём в какоето особенное время, время каких-то особенно страстных исканий.
В раздающихся речах нет пока единогласия, нет определённо выраженного направления; напротив, никогда такой разноголосицы не было в русском обществе как теперь. Самые противоположные мысли, учения направления переплелись одно с другим, не приводя кочующей мысли русского интеллигента к определённому выводу, какому-нибудь удовлетворяющему его мучительные искания исходу.
И во что только не погружались взыскующие умы и опустошённые души: богостроительство, мистика, неохристианство, безоглядный, самодовлеющий пессимизм». Данное общественное заявление было одной из немногих адекватных реакций на происходившее в российском общество социокультурное противостояние – по сути, на основе этнонационалистического религиозно-философского дискурса общество пыталось заявить самому себе о наличии очевидных проблем в общественно развитии, о расколе общества и деформации коллективного сознания.
Под маской разрешения «дела Бейлиса» различные публицисты пытались «протянуть» совсем другие проблемы социально-политического дискурса, привлечь внимание к другим не менее ангажированным проблемам.
Многие апеллировали к ситуации первой русской революции и ее последствиям, полагая, что общественного резонанса, равно как и неготовности общества адекватно ответить на произошедший социальный вызов, не было бы, будь монархия более целостным и менее «слабым» общественно-политическим образованием.
Один из авторов актуальной брошюры, в частности, отмечает, что «до 17 апреля 1905 года была у нас «святая Русь», Русь с полным господством святой православной веры во всей внешней и внутренней общественной её жизни. Русь, завещанная нам нашими предками, страдальцами за землю святорусскую. Ныне же православие, раскол, секты и всякие виды язычества и неверия законом гражданским поставлены рядом.
И каждому под флагом объявленных свобод предоставлен полный произвол в духовной жизни» . Тем самым, как можно было обнаружить, происходила попытка переориентации острия социальной напряженности с непричастных к глобальным проблемам общества евреев, к более ответственным за происходившее процессы социальным силам. В частности, одной из таких попыток стало стремление обвинить интеллигенцию в нарушении стабильного духовного развития общества, что «растлевающие» веяния интеллигенции, ее метания и ментальная нестабильность способствовали краху традиционных общественно-идеологических формул самодержавного режима.
Как бы то ни было, уникальность «дела Бейлиса» в том, что оно из частного процесса переросло в общественную проблему; более того, это оказался «важный выразитель состояния общественного сознания Российской империи накануне Первой мировой войны и Февральской революции. Это дело приобрело такую известность, потом что рассматривалось как удобный повод доказать виновность еврея, а в его лице всё «еврейство» и, в частности, тех евреев, которые участвовали в революционном движении». И, как можно заметить, это сыграло свою роль в последующих социально-политических процессах.
Заключение
Социокультурные паттерны восприятия в имагологической оппозиции «свой»-«чужой» будут всегда оказывать решающее влияния на существование в обществе ксенофобских и лояльных позиций по отношению к другим группам этничности и конфессиональной принадлежности. Рамки восприятия в обществе характеризуются как насущными проблемами социально- экономической и повседневностно-бытовой направленности, так и изначально складывавшимися в обществе ментально-типологическими установками и предписаниями.
Методологический аппарат исторической имагологии позволяет рассматривать проблемное поле многих неоднозначных и дискурсивных сюжетов и явлений исторического процесса в особом когнитивном срезе, давая почти что глубинное понимание причинностей действий и реакции задействованных в этом социально-политических сил.
История еврейства в России, и рамки его восприятия характеризуются многими очевидными факторами. Одним из таких факторов, в частности, выступало наличие проблемных взаимоотношений еврейства с еще славянским контингентом населения Древней Руси в ранние периоды, воспринимавшего иудеев исключительно как ростовщическую прослойку и на основании этого крайне негативно к ней относившегося.
Религиозная политика древнерусского, а затем и московского государства вплоть до XVII столетия делала невозможным пребывание евреев на территории страны – как из-за «ереси жидовствующих», так и по причине нередкого обращения в «веру талмудическую» соседствующих с еврейскими кагалами христиан.
В XVIII столетии последовал ряд наиболее жестких запретительных мер со стороны имперской администрации, крайне негативно взиравшей на попытки проникновения еврейских торгово-промышленных слоев во внутренние рынки Российской империи, в связи с чем был сформирован даже целый нормативно-правовой корпус документов, способствующий правовому ограничению этого процесса. Наличие достаточно жестких, радикальных действий, вроде социальных санкций в отношении офицера А. Возницына и причастного к его переходу в иудаизм раввина наглядно показывали нежелание российского общества рассматривать интеграцию еврейства в социальный организм страны.
Отчасти данная позиция была вызвана также исконной западноевропейской «модой» на антисемитизм, которая, в свою очередь порождалась объективными причинами политико-правового и финансово- хозяйственного характера.
Наличие в российском обществе недовольных социальных слоев, в частности, купечества, остро ощущавшего возникновение потенциально опасного нового конкурента, неготовность к восприятию религиозной терпимости и уважительного отношения к чуждым традициям настраивали российское общество на негативный «лад» в отношении еврейства.
Особое распространение в контексте данного вопроса получил так называемый «кровавый навет», распространявшийся в отношении евреев и, по сути, представлявший собой форму специфической социальной реакции в проявлении недовольства массами народа еврейством, его социально- религиозным позиционированием.
Примечательно, что первоначально практика «кровавого навета» была специфической традицией католического вероисповедания, и уже позднее была перенесена на российскую почву в условиях двух (1772 и 1793 гг.) разделов Речи Посполитой и вливания в структуру общества Российской империи помимо собственно еврейского контингента, и «наследственной болезни» польских территорий в виде мифологем «наветов».
Последние выступали не только попыткой социальной дискредитации еврейского контингента населения, но и способствовали созданию мощной идеологической базы для дальнейшего противостояния с еврейством, инициировали процессы социального остракизма в отношении наиболее неугодных деятелей еврейского движения, формировали
Специализированный механизм полемики с еврейством, пусть и в виде откровенного подлога.
В целом, помимо практических, существовали еще и религиозно- мифологемные истоки практики «кровавого навета» в социальном дискурсе российского общества. В частности, участие представителей иудаизма в библейском сюжете с распятием Христа, ветхозаветные эпизоды неоднократного ослушания иудеями Божьей воли формировали убежденность в «порочном» и заведомо «колдовском» состояни и еврейского народа и проистекавшим из этого негативном восприятии его православным социумом.
Российская управленческая элита по различным причинам «сквозь пальцы» смотрела на проблемы еврейства и наличие еврейского вопроса в стране. В частности, представители верхушки сами являлись людьми своей эпохи, и социокультурные стереотипы довлели над ними зачастую не в меньшей степени, чем над рядовыми представителями российского общества.
Следует также сознавать, что при дворах правящих монархов складывались так называемые «группы давления», в том числе и те, которые ставили своей целью окончательную дискредитацию еврейства в глазах общества и правящей элиты, создание негативного образа еврейства ввиду собственных своекорыстных целей и личной коммерческой или политической выгоды.
Это было вызвано, помимо всего прочего, и стремлением создать некое приложение для «выхода» социальной агрессии, своего рода обобщенного «козла отпущения» в случае нарастания каких-либо кризисных ситуаций в обществе.
К примеру, как показывает общественно-политическая практика XIX столетия, практически ни одно значимое событие негативного толка не обходилось без последующих погромов (радикальный вариант), либо полемических обвинений и подозрений («мягкий» вариант) в отношении еврейства, которое в этом случае выполняло незавидную роль социокультурного «клапана парового котла».
Зачастую под видом актуальных «разбирательств» с еврейством маскировались куда более глубинные процессы кризисного состояния в обществе, как это происходило в случае с «делом Бейлиса», которое было детерминировано серьезными Противоречиями социально-политического толкав обществе накануне крушения монархической системы в России.
Список источников и литературы
Источники
1.Документы, собранные еврейской историко-археографической комиссией Всеукраинской Академии наук. Киев – Иерусалим, 1999.
2.Люцинское дело по обвинению Лоцовых, Гуревича и Маих в убийстве Марии Дрич: стенографический отчет. – СПб., 1885.
3.Материалы Комиссии по устройству быта евреев (по Империи). – Ч. 1. – СПб., 1879.
4.Регесты и надписи. Свод материалов для истории евреев в России. Т. II – III. СПб., 1910-1913.
5.Речь Н. П. Карабчевского в защиту потерпевших от погрома в еврейской колонии Нагартов (март 1900 г.) // [Электронный ресурс] URL: #”justify”>6.Сборник узаконений, касающихся евреев. – СПб., 1872.
7.Св. Иоанн Кронштадский (Сергиев) Мысли мои по поводу насилий христиан с евреями в Кишиневе // [Электронный ресурс] URL: #”justify”>8.Улицкий Е.Н. История Московской еврейской общины: документы и материалы. – М., 2006.
9.Фельдман Д.З. «Желаем записаться в российское купечество: прошение евреев г. Митавы к графу А.Р. Воронцову // Источник. – 1997. – №4.
10.Хвольсон Д. А. Употребляют ли евреи христианскую кровь? – К.: тип. Р. К. Лубковского, 1912.
11.Хвольсон Д. А. О некоторых средневековых обвинениях против евреев – СПб.: Тип. Цедербаума и Гольденблюма, 1880.
12.Архив Юго-западной России. Киев, 1863. Т. 1. Ч. VI.
13.Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов и материалов. Т. Минск, 1961. 376 с. 3. Выписка из журнала М.Н. Кречетникова (1793 год) //Русский архив. 1880. Кн. 3. Вып. 5..
14.Документы, собранные еврейской историко-археографической комиссией Всеукраинской Академии наук. Киев – Иерусалим, 1999.
15.Иерусалимский С. Гонения на еврейскую одежду // Еврейская старина. 1912. Т. 5. Вып. 3.
16.Куприянов А. Культура городского самоуправления русской провинции.
1780-1860-е года. М., 2009.
17.Леванда В.О. Полный хронологический сборник законов и положений, касающихся евреев, от Уложения Царя Алексея Михайловича до настоящего времени. 1649-1873 г. Извлечение из Полных собраний законов Российской империи. СПб., 1874.
18.Материалы для отечественной истории. Т. 1. Отд. 2. Киев, 1853. 19.Материалы Комиссии по устройству быта евреев (по Империи). Ч. 1. СПб.,1879.
20.Мендес-Флор П., Рейнхарц Й. Евреи в современном мире. История евреев в Новое и новейшее время: антология документов. М., Иерусалим. 2006.
21.Областной пинкос ваада главных еврейских общин Литвы (в переводе И.И. Тувима) // Приложение к журналу «Еврейская старина». 1909-1913.
22.Объяснительная записка В.Н. Каразина министру внутренних дел графу Виктору Павловичу Кочубею // Русская старина. 1870. Т. 2.
23.Регесты и надписи. Свод материалов для истории евреев в России. Т. II – III. СПб., 1910-1913.
24.Сапунов А. Витебская старина. Т. 1. Витебск, 1883.
25.Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 1.
СПб., 1864. 16.Сборник узаконений, касающихся евреев. СПб., 1872.
26.Топоровский Б. Два указа императора Александра I // Еврейская старина.1913. Вып. 3.
27.УлицкийЕ.Н.ИсторияМосковскойеврейскойобщины:документыи материалы. М., 2006.
28.Фельдман Д.З. «Желаем записаться в российское купечество: прошение евреев г. Митавы к графу А.Р. Воронцову // Источник. 1997. №4.
29.Фельдман Д.З. «Принесет казне немалую прибыль». Нота Ноткин и его проект еврейской торговой компании // Источник. 1999. №4.
30.Фельдман Д.З. «Следует ли евреям позволить?..»: «Мнение» президента Коммерц-коллегии А.Р. Воронцова. 1790 г. // Исторический архив. 1993. №6. С. 197-200. 22.Фиркович З.А. Сборник старинных грамот и узаконений Российской империи касательно прав и состояния русско-подданных караимов. СПб., 1890.
31.Черновые собственноручные наброски наказа и предположений Екатерины II об управлении вновь присоединенными от Польши областями // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 13. СПб., 1874
32.Шугуров М.Т. Доклад о евреях императору Александру Павловичу // Русский архив. 1903. Т. 2.
33.Эварницкий Д.И. Сборник материалов для истории запорожских казаков.СПб., 1888.
Литература
34.Абакумова Е.В. Повинности евреев в Российской империи в конце XVIII века // Вестник Московского университета. – Серия 11: Право. – 2011. – № 4. 35.Аверьянов А.В. Национальная доктрина русского консерватизма конца XIX – начала ХХ веков: к постановке вопроса//Российская и зарубежная история: социально-экономические и политический проблемы общества и государства. Ч.2. – Пятигорск, 2007
36.Агапов В.Л. Вице-губернатор Н.В. Мономахов и его борьба с «еврейским засильем»: эпизод «газетных войн» против чиновников (1912 год) // Новый исторический вестник. – 2016. – № 49.
37.Алексеева С.И. Святейший Синод в системе высших и центральных государственных учреждений пореформенной России 1856-1904 гг. – СПб., 2003.
38.Аманжолова Д.А. Историография изучения национальной политики//Исторические исследования в России. Тенденции последних лет/Под ред. Г.А. Бордюгова. – М., 1996.
39.Андрейчева М.Ю. Религиозная имагология: предмет и задачи нового историко-имагологического направления // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 11.
40.Безаров А.Т. А.Р. Дрентельн и еврейский вопрос в начале 1880-х гг.//Вопросы истории. – 2010. – № 6.
41.Белов М.В. Стереотипы, ментальные карты, имагология: методологические апории//Историческая наука сегодня: Теория, методы, перспективы/Под ред. Л.П. Репиной. – М., 2011.
42.Биюшкина Н.И. Особенности национальной политики российского государства в 70-90-х гг. XIXв. // Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика. – 2011. – № 2.
43.Бойцов М.А. Что такое потестарная имагология? // Власть и образ. Очерки потестарной имагологии . – СПб., 2010.
44.БудановА.В.Варваризациявпространствевзаимодействия«свои»-«чужие» //Цивилизация и варварство. Вып.3 – М., 2015.
45.Буданова В.П. «Чужое» как спасение, «Своё» как тупик//Цивилизация и варварство//Цивилизация и варварство. Вып.3 – М., 2015.
46.Галай С.М. Еврейские погромы и роспуск I Государственной думы в 1906 году//Вопросы истории. – 2004. – № 9.
47.Гасратян С.М. Еврейские общины в России в 1880-1906 гг.//Вопросы истории. – 2013. – № 5
48.Герасимова В.А. «Свои» и «чужие»: крещеные евреи в России XVIII века // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. – 2010. – № 15 (58).
49.Горюшкина Н.Е. «Излюбил жид питейный промысел»: об участии евреев в винокурении и виноторговле XIX в.//Известия Юго-Западного государственного университета. – 2012. – № 5. Ч.1.
50.Гудков Л.Д., Левинсон А.Г. Евреи в России – свои/чужие // Одиссей. Человек в истории. 1993. – М., 1994.
51.Гурьянова А.В., Зайцева Н.В. Феномен «инаковости» в сфере исторических исследований//Вестник Самарского государственного университета. – 2012.- № 2/1(93).
52.Дандес А. «Кровавый навет», или Легенда о ритуальном убийстве: антисемитизм сквозь призму проективной инверсии // Фольклор: семиотика и/или психоанализ: Сб. ст. – М.: Восточная литература, 2003.
53.Дорогавцева И.С. Универсальные закономерности репрезентации другого в литературных и нелитературных текстах//Гуманитарный вектор. – Чита, 2008. – № 3.
54.Друянов Б.М. Евреи в России: По страницам книги А.И.Солженицына «Двести лет вместе». – М., 2005.
55.Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма//Вопросы истории. 1996. № 11-12.
56.Егоров В.В. Правовое положение еврейского населения как предмет регулирования российского законодательства XVIII-начала XX вв. – Нижний Новгород: Пламя, 2013.
57.Егоров В.В. Регулирование правового положения еврейского населения Российской империи в период правления Николая II (1894-1917)//Вестник Омского университета. – 2012. – № 3.
58.Забелина Н.Ю. Имагология как форма исторического знания//Научные труды Московского гуманитарного университета. – 2008. – Вып.95.
59.Златина М.А. Циркуляр от 13 августа 1915 года о разрешении евреям проживать вне черты оседлости: отношение местных властей и проблемы реализации//Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – СПб., 2009. – № 115.
61.Иванов Ю.М. Евреи в русской истории. – М., 1998.
62.Ильин С.А. Русская православная церковь и «еврейский вопрос» // Вестник ТГУ им. Г.Р. Державина. Серия: Гуманитарные науки. – 2009. – № 3 (71).
63.Ищенко А.А. Теоретические и историографические аспекты формирования образа «другого» (1980-2000 гг.)//Российский научный журнал. – Рязань, 2011. – № 23.
64.Казакова О.Ю. Границы междисциплинарности: термины, дефиниции, понятия//Российская история. – 2010. – № 5.
65.Кацис Л.Ф. Кровавый навет и русская мысль: Историко-теологическое исследование дела Бейлиса. – М.: Мосты культуры / Гешарим, 2006.
66.Кельнер В. Е. Российское еврейство в поисках идентичности: от религиозной общины к национальному сообществу (Ковенское совещание еврейских религиозных и общественных деятелей, 1909 г.) // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. Т.2. Философия. – 2015. – № 3.
67.Козлитин Г.А. Ограничение социально-экономических прав евреев в Российской империи XIX века // Человеческий капитал. – 2016. – № 4 (88).
68.Козлитин Г.А. Правовое положение евреев в Российской империи XVIII – XIX вв.: цивилистический аспект // Вестник Института мировых цивилизаций. – 2014. – № 8.
69.Комолятова А.Н. Еврейство в социокультурном пространстве северного города Российской империи XIX – начала XX вв. // Вестник СевФУ. Сер.: Гуманитарные и социальные науки – 2014. – № 6.
70.Конюченко А.И. Качества еврейского солдата (из истории военной службы в дореволюционной России)//Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 16.
71.Кряжева-Карцева Е.В. Некоторые черты деловой культуры евреев в России в XIX – начале ХХ в.: конфессионально-этические корреляции//Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. – 2010. – № 2.
72.Кудряшев В.Н. «Черный передел», «Народная воля» и еврейский вопрос: реакция русского народничества на еврейские погромы 1881 г.//Вестник Томского государственного университета. – 2011. – № 349.
73.Малахов В.А. Региональная локализация еврейских погромов 1881-1882 гг. в Российской империи//Вестник Брянского государственного университета. – 2012. – № 2(2).
74.Маршуба Д.А. Проблема классификации сфер исследования в имагологии//Гуманитарные научные исследования. – 2015. – № 4. Ч.1.
75.Миндлин А.Б. Политика С.Ю.Витте по «еврейскому вопросу»//Вопросы истории. 2004. № 4.
76.Миндлин А.Б. Правительственные комитеты, комиссии и совещания по еврейскому вопросу в России в XIX – начале ХХ вв.//Вопросы истории. 2000. № 8.
77.Морозов С.Д. Население России на рубеже XIX – ХХ веков//Отечественная история. 1999. № 4.
78.Москаленко Л. Эволюция общественно-правового статуса раввина в Российской империи в XIX – начале XX вв. (в контексте формирования законодательной базы) // Схiд. – 2016. – № 4 (144).
79.Назаров А.Н. «Дело Бейлиса» в зеркале исторической антропологии // В сборнике: История и археология. Материалы Международной научной конференции. – 2012.
80.Натанс Б. За чертой: евреи встречаются с позднеимперской Россией. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007.
81.Носенко-Штейн Е.Э. Чужие среди чужих: существует ли еврейская православная идентичность // Этнографическое обозрение. – 2009. – № 3.
82.Ощепков А.Р. Имагология//Знание. Понимание. Умение. – 2010. – № 1.
83.Панченко А.А. К исследованию «еврейской темы» в истории русской словесности: сюжет о ритуальном убийстве // Новое литературное обозрение: журнал. – 2010. – № 104.
84.Панченко А.А. Кровавая этнография: легенда о ритуальном убийстве и преследование религиозных меньшинств // Отечественные записки. – 2014.- № 1 (58).
85.Папилова Е.В. Имагология как гуманитарная дисциплина // Вестник МГГУ им. М. А. Шолохова. Филологические науки. – 2011. – № 4.
86.Папилова Е.В. Имагология как гуманитарная дисциплина//Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Филологические науки. – 2011. – № 4.
87.Платонов О.А. Еврейский вопрос в России. – М., 2005.
88.Поляков О.Ю. Становление и развитие категориального аппарата имагологии//Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – 2014. – № 9.
89.Посохов С.И. Этические проблемы исторической имагологии//Новая локальная история (по следам Интернет-конференций. 2007-2014). – Ставрополь, 2014.
90.Размолодин М.Л. Еврейский вопрос в идеологии черной сотни // Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ. – 2011. -№ 68.
91.Размолодин М.Л. К вопросу об участии черной сотни в еврейских погромах в России в октябре 1905 г.//Вестник Томского государственного университета. – 2011. – № 346.
92.Реснянский С.И. Философско-исторический дискурс о «другом»//Новая локальная история (по следам Интернет-конференций. 2007-2014). – Ставрополь, 2014.
93.Римский С.В. Конфессиональная политика России в Западном крае и Прибалтике XIX столетия//Вопросы истории. – 1998. – № 3
94.Сенявский А.С., Сенявская Е. С. Историческая имагология и проблема формирования «образа врага» (на материалах российской истории ХХ века) // Вестник РУДН. – 2006. – № 2(6).
95.Сердюк Н.В. Феномен «псевдосвоего»: оперативная игра «свой» среди «чужих» //Цивилизация и варварство. Вып.3 – М., 2015.
96.Сикорский Е.А. К вопросу об общественной позиции Русской Православной церкви в конце XIX – начале XX века//Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. – 2011. – № 4.
97.Соловьева А.Н. Культура «своя» и «чужая»: проблемы объективации в научном и политическом дискурсах//Вестник Поморского университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2008. – № 3.
98.Стецкевич М.С. Религиозная толерантность и нетерпимость в истории европейской культуры. – СПб.:СПбГУ, 2013.
99.Туманова А.С. Общественность и формы ее самоорганизации в имперской России конца XVIII – начала XX в.//Отечественная история. – 2007. – № 6.
100.Фельде В.Г. Модели встречи своего и чужого//Вестник Томского государственного университета. – 2013. – № 372.
101.Фирсов С.Л. Православная Церковь и государство в последнее десятилетие существования самодержавия в России. – СПб., 1996
.Хасин В. В. Роль текстов свидетельских показаний в формировании сценариев «ритуальных» процессов в Российской империи в XIX веке // Известия Саратовского университета. Серия История. Международные отношения. – Саратов: Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского., 2008. – Т. 8, вып. 2.
.Хасин В.В. Интеграция «ритуальных» мифологем в общественную ментальность и историческую память российского соцума в XIX-ХХ веках // История и историческая память. – 2010. – № 1.
.Хвасин В.В. Способы формировании «ритуальных» мотиваций в российском судопроизводстве на рубеже XIX -XX вв.: «люцинское дело» // Источниковедческие, исторические, философские и политические науки. Вопросы теории и практики. – 2012. – № 5.
.Хижая Т.И. Образ иудея в современном православии vs образ христианина в современном ортодоксальном иудаизме // В сборнике: Академическое исследование и концептуализация религии в XXI веке: традиции и новые вызовы. – Т. 5. – Владимир: Аркаим, 2016.
.Хижая Т.И. Субботники и евреи в российском обществе XIX – начала XX вв.: дискурсы восприятия // В сборнике: Научные труды по иудаике. Материалы XX Международной ежегодной конференции по иудаике. Сер.:«Академическая серия». – М.: «Сэфер», 2013.
107.Хлыщёва Е.В. Проблемы восприятия «Чужого» как «Своего»//Гуманитарные исследования. – Астрахань, 2010. – № 4.
108.Черниенко Д.А. Этнический образ в истории как объект междисциплинарного синтеза//Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные перспективы. – Томск, 2002.
109.Юзефович И.В. Речевой потрет «чужого» в русской литературе конца XIX – начала XX вв.: лексико-синтаксические особенности создания литературного образа еврея // Русский язык за рубежом. – 2015. – № 2.