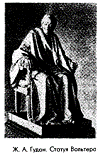- Вид работы: Курсовая работа (т)
- Предмет: Культурология
- Язык: Русский , Формат файла: MS Word 121,82 kb
Образы птиц в наскальном искусстве Сибири.
Образы птиц в наскальном искусстве Сибири.
Лукашевская Яна Наумовна.
ВВЕДЕНИЕ
Образы птиц…Сколько связано с ними поэтических метафор, ассоциаций, заставляющих вспомнить детские сказки, басни, народные песни, загадки, пословицы!
Схематические фигурки куриц, петухов и гусей непременно встретятся в русской вышивке полотенец, орнаментальные мотивы, напоминающие птичьи крылья и лапы, часто переплетаются со сложными растительными узорами на кружевах, а грациозные журавли, словно танцующие в зарослях лотоса, украшают изысканные китайские шелка. Не только народные мастера обращаются к традиционным формам изображений птиц, пернатых можно увидеть на посуде заводского массового производства. Так, наш взор без труда отыщет птицу и на обеденной тарелке, и на сувенирном полотенце, и на шелковом халате, и даже в государственном гербе. Этот список можно было бы продолжать, но перечисление невольно хочется оборвать вопросом: «Почему именно образ птиц, как хищных, так и водоплавающих, столь широко распространен?» Кажется, на первый взгляд, ответ очевиден. Если тигры, олени, львы не везде обитают и не часто встречаются человеку, то птицы есть везде. Каждый день мы их видим, слышим их пение. Птицы обладают красивым оперением и способностью летать, недоступной человеку, а потому вызывающей естественное, хоть и не всегда осознанное чувство зависти. «Ах! Почему люди не летают, как птицы!» – вспоминается невольно знаменитое риторическое восклицание героини Островского. Да, людям не дано крыльев, но ведь, например, и жабр, позволяющих дышать под водой, у людей нет. Почему же тогда рыбы, повсеместно встречающиеся и умеющие делать то, чего человек не может, не заняли столь видного места в поэзии и искусстве. «Ах, почему люди не плавают под водой, подобно рыбам!» Такая фраза в устах меланхоличной героини романа прозвучала бы комично. Как, впрочем, и восклицание вроде: «Ах, почему люди не ползают, словно змеи!»…
Значит, на вопрос о популярности птицы в искусстве не так-то просто дать ответ. Эта задача ещё более усложняется тогда, когда речь идёт не о современном массовом или народном искусстве, а об искусстве древнем. Наскальные рисунки и костяные пластинки донесли до нас выразительнейшие в своей обобщенной лаконичности образы птиц, запечатлённые мастерами позднего плейстоцена! Невозможно с точностью указать промежуток времени, когда возникли первые художественные воспроизведения птиц, но очевидно, что уже изображения, относящиеся к предшествующей современной геологической эпохе, отличаются поистине высоким уровнем исполнения, как по технике, так и по своей образности.
Данная работа посвящена проблеме генезиса образов птиц в первобытном искусстве Южной Сибири, а так же изучению отдельных орнитоморфных мотивов, их стилистических особенностей, семантики и декоративных свойств. Но географические рамки ( как всегда в тех случаях, когда речь идёт не просто об искусстве отдельной археологической культуры, а о зарождении и развитии отдельного сюжета или мотива в искусстве весьма обширного ареала) – лишь условные границы, в пределах которых наиболее удобно и уместно, проводить классификацию, осуществлять стилистический анализ и делать обобщающие выводы. Поэтому, изучая образы искусства указанной территории, необходимо проводить параллели, обращаться к аналогиям из других культур. Так, в связи с выбранной темой нельзя обойтись без рассмотрения подобных образов и мотивов в первобытном искусстве Дальнего Востока, Китая и Древнего Ирана. При этом не ставится цели выяснить, где возник и какими путями был заимствован тот или иной художественный приём или изобразительный инвариант. Подобные попытки заранее обречены. Так как погружают любого исследователя в «дымку» умозрительных выводов, субъективных взглядов и хронологической путаницы. Проводя параллели между искусством территориально отдалённых друг от друга культур и цивилизаций, интересно выявить глубинные архетипические основы рассматриваемых художественных образов, сходства и различия стилистического исполнения древнейших произведений искусства, их семантическое и эстетическое содержание в аксиологическом аспекте. Именно такие задачи необходимо решить в ходе этой работы.
В основе искусствоведческого анализа должен находиться вопрос о том, с помощью каких художественных средств мастера достигали образной выразительности, а вовсе не вопрос о том, что же именно изображено художником и зачем. Однако, такая формула оказывается не только не полноценной, но и лишённой всякой эффективности, когда речь заходит об анализе произведений первобытного искусства. Поскольку всё древнее искусство синкретично по своей сути, то и подход к нему должен быть соответствующим. Уделяя недостаточное внимание значению изображений, исследователь рискует безосновательно приписать свой субъективные впечатления к смыслу произведения, а личные наблюдения возвести в абсолют. Чтобы избежать подобных ошибок, в работе неизбежно приходится обращаться к фольклору, мифологии, данным этнографии, страноведения и культурологи. Верно же писал немецкий мыслитель Эрнст Кассирер ещё в первой половине ХХ века, что «искусство, как и язык, тесно переплетается в своих истоках с мифом. Миф, язык и искусство восходят к конкретному нерасчленённому единству, лишь постепенно распадающемуся на три самостоятельных вида духовного творчества».[1]
В определении подхода к изучению образов птиц на примере искусства отдельных археологических культур и племён Южной Сибири, в том числе – Алтая, автор опирается на современный типологический метод, то есть «рассматривает вещь не в саморазвитии, а в комплексе вопросов, связанных со средой, в которой создана вещь»[2]. Конечно, следуя такому подходу, нельзя ограничиваться узкорегиональным мышлением, но, и не следует пренебрегать изучением специфических исторических черт и особенностей природных условий отдельных территорий. Поэтому библиографической основой работы служат исследования, посвящённые и отдельным археологическим культурам (карасукской, тагарской, например), и истории определённых регионов в целом (Тувы, Хакасии), и общим вопросам искусствоведческого и культурологического характера (вопросам о художественном образе, знаке, символе, архетипе и т.д.) Немаловажную роль в проводимом анализе сыграли работы, связанные с этнографий. Критический обзор литературы к данной работе проводится без учёта хронологической последовательности, в которой издавались книги и статьи. Это обусловлено тем, что затрагиваемая тема не имеет собственной историографии, так как в настоящей работе рассматривается история не отдельно взятой культуры, народа или стиля, а генезис определённого образа. Поэтому уместно остановиться на описании наиболее важных литературных источников в той последовательности, в какой они использовались автором входе исследования. Однако следует отметить основные историографические вехи.
К рассмотрению образов птиц, выступающих как неотъемлемый элемент мифопоэтических представлений, религиозных символических систем и ритуалов, обращались исследователи ещё в ХIХ веке. Известно, что именно во второй половине XIX века началось поистине серьёзное систематическое изучение древней истории человечества. К этому времени относятся первые удачные попытки объективного исторического подхода к осмыслению предметов первобытного искусства и зарождение стремления типологически и хронологически классифицировать имевшиеся на тот момент археологические находки. Знаменательна для России в этом отношении дата – 1877 год, когда в Минусинске естествоиспытателем Н.М.Мартьяновым и Д.А.Клеменцем был открыт музей для сохранения и изучения растений, горных пород края, предметов искусства и быта как современных хакасов, так и тех народов, что населяли степи Енисея в древние времена. Так, к концу XIX века складывается метод комплексного подхода к изучению образов и мотивов древнего искусства. Собранные археологами и экспонируемые в музеях объекты рассматриваются с точки зрения исторической, этнографической, культурной и культовой, ритуальной их значимости.
Тогда же возникает необходимость изучать отдельные образы, порождённые фантазией и наблюдательностью древних мастеров, а так же проводить широкие межкультурные и межэтнические параллели. В связи с разрабатываемой здесь темой интересно привести рассуждения русского этнографа конца XIX столетия Д.Н.Анучина: «Представления о птицах, как о существах способных быть носителями человеческих желаний и молений, а с другой стороны – возвестителями воли богов, символами их покровительства и объектами, служившими для воплощения в них божественной мощи, – такого рода представления мы встречаем у народов, стоящих на самых различных ступенях культуры, от дикарей-шаманистов до народов древнего Востока и Греции, и от варваров далёкой Азии и Африки до народных масс современной христианской Европы»[3]. А.П.Окладников, один из лучших исследователей петроглифов в России, знаток религиозно-мифологических систем древних цивилизации и современных традиционных культур, в своих трудах обращается к интереснейшим сопоставлениям. Все его изыскания словно указывают будущим поколениям специалистов тот путь, по которому следует идти всем, стремящимся отыскать глубинные первообразы, лежащие в основе искусства всего человечества. А.П.Окладников обращает внимание своих читателей на тесную связь образов древнего искусства с устным народным эпосом, с шаманскими камланиями, проводимыми в наши дни. Эта связь – не всегда результат «перекочёвывания» сюжетов из одного мифа в другой, от одного народа к другому. А.П.Окладников в книге «Сокровища Томских писаниц» пишет об образах птиц: «Надо полагать, что это выражение одной и той идеи; в основе схожих взглядов лежали сложные мифологические и поэтические представления о священных птицах как о надёжных посредниках между миром людей и миром духов»[4]. Книги А.П.Окладникова ценны ещё и тем, что в них тщательнейшим образом даны описания отдельных фрагментов наскальных изображений. Учёный чётко, последовательно, а главное – беспристрастно и терпеливо, даёт характеристику чуть ли ни каждому рисунку, выделяя специфические черты техники исполнения, образного содержания и визуальной выразительности. В поистине монументальном труде в соавторстве с В.Д.Запорожской «Петроглифы Забайкалья» он разрабатывает удобную во всех отношениях классификацию изображений, на основе которой становится возможным установить модульные изобразительные инварианты. Благодаря этому, без особого усилия удаётся описать стилистические признаки изображений и, соответственно, найти подходящие аналогии в искусстве других регионов. А, по справедливому замечанию И.С.Каменецкого и Я.А.Шера, «стилистические признаки весьма информативны: Изображения животных объединяются не по видам в группы, а по стилям»[5]. Это очень важно особенно для искусствоведческого анализа. Именно «по стилям, а не по видам» классифицирует петроглифы А.П.Окладников. Так, например, он пишет: «Можно разделять фигуры на Забайкальских писаницах на две большие группы по формам хвоста: с прямо срезанным хвостом и с хвостом выямчатым»[6]. Подобным исследовательскими приёмам стремится следовать и автор настоящей работы, изучая и сопоставляя образы птиц в различных древних культурах. Более того, практически вся первая глава работы, посвящённая проблеме сложения изобразительной традиции образов птиц в петроглифах Древней Сибири, базируется именно на трудах академика А.П.Окладникова, заслуги которого в изучении первобытного искусства и археологии Сибири без преувеличения грандиозны по своим масштабам. Изучая петроглифы многих регионов Сибири, Дальнего Востока, Алеутских островов, А.П.Окладников пришёл к важному и убедительному выводу, который актуален не только тогда, когда речь идёт о наскальном искусстве. Приведённое ниже утверждение верно применимо к первобытному искусству вообще. «Объяснение возникновения общности искусства петроглифов Северной Европы и Азии не стоит сводить к одному центру или передвижению значительной массы древнего населения. Причины такой общности искусства надо искать в другом: прежде всего в жизни людей – тех сторонах её, которые формируют мировоззрение народа… Очевидно, одинаковым было понимание зачатия жизни и акта смерти, роли солнца в природе, представление о вселенной и о строении мира»[7].
Действительно, вопрос о происхождении того или иного образа в искусстве в научных кругах всегда вызывает полемику. А если исследователи берутся выяснить, где находилась родина определённого стиля или сюжета, то тут же возникает множество противоположных мнений и гипотез, подтверждаемых археологическим материалом, историческими фактами, стилистическим анализом и сложными логическими рассуждениями! Какой теории отдать предпочтение, какого автора следует считать более близким к объективной исторической истине? Главное в данной ситуации – не давать волю эмоциям, не делать поспешных выводов и не стремиться свести все замечательные явления древних культур к влиянию могучих цивилизаций, таких как Китай, Древняя Греция, Передняя Азия. К сожалению, даже крупные учёные слишком превозносят роль указанных цивилизаций в мировом историческом процессе, считая остальные культуры по отношению к ним «второразрядными», «периферийными», а так же преувеличивают значение такого явления, как культурная диффузия, пространственное перемещение культурных явлений. Верно пишет С.И.Вайнштейн в своём фундаментальном труде «История народного искусства Тувы»: «В целом нельзя согласиться с тем, что скифо-сибирский звериный стиль был принесён в готовом виде из Передней Азии. Достаточно сказать, что в переднеазиатском искусстве предскифского времени найдены лишь очень немногие соответствия со скифским звериным стилем. В переднеазиатском искусстве изображения животных составляли лишь один из его компонентов, причём отнюдь не главенствующий, в скифо-сибирском зверином стиле, звериные мотивы безраздельно господствуют, а образ человека вообще ему чужд»[8]. Исследования С.И.Вайнштейна вообще ценны тем, что он комплексно подходит к решению серьёзных исторических вопросов. Несмотря на то, что книга посвящена искусству сравнительно небольшой республики ( площадью всего 170 тыс. км. кв.), она учит читателя мыслить масштабно, выходя за пределы географических рамок. Автор проводит удивительные параллели между бронзовым веком и современными данными этнографии. Сопоставляя образы средневекового тюркского эпоса, народного декоративно-прикладного искусства и древних изображений. С.И.Вайнштейн обращается к архетипическому началу, таящемуся в основе всех человеческих культур. Кроме того, он в своих изысканиях не ограничивается одним каким-либо подходом к рассмотрению полемичных проблем, умеет вести глубокий многогранный анализ. А это так необходимо для учёного, особенно когда затрагиваются синкретичные в своей основе явления, такие как скифский звериный стиль!
Ценные этнографические данные представлены в работах С.В.Иванова. Он в своих исследованиях скульптуры и декоративно-прикладного искусства народов Сибири и Дальнего Востока обращается к фольклористике, к мифопоэтическим представлениям традиционных народов, сохранивших в своей культуре, в укладе жизни, в самой душе отголоски древности. С.В.Иванов приводит богатый изобразительный материал, чётко систематизированный, атрибутированный и тщательно изученный. Он публикует экземпляры не только из многих крупных музеев, но так же из частных коллекций, в том числе из собственной. Его работы интересны и тем, что позволяют проследить эволюцию художественных мотивов у разных народов. А на основе этого несложно выявить некие общие законы, по которым в изобразительном искусстве происходит стилизация образов, упрощение или, наоборот, усложнение композиций, возникновение орнаментов. Когда С.В.Иванов рассуждает об изображениях птиц, то, указывая на одну из главнейших их роль в шаманизме, признаёт и подчёркивает глубинные, дошаманистские, корни представления о птице, как существа, связанного с миром мёртвых и наделённого магической силой.
В книге «Орнамент народов Сибири как исторический источник» подчёркнута важность детального рассмотрения именно орнамента, как одного из главнейших компонентов любой традиционной культуры. Пожалуй, С.В. Иванов одним из первых в науке столь серьёзно и комплексно подходит к изучению орнамента. В этом – его огромная заслуга, так как орнамент по-праву может быть признан чуть ли ни самым значительным историческим источником для изучения Сибири и Дальнего Востока, а особенно – когда речь идёт о древнейших дописьменных культурах. Учёный верно утверждает о том, что «неолитическую основу обнаруживают многие стороны орнамента <…> Столь же ощутима связь многих узоров с искусством бронзового века и раннего железа»[9]. Действительно, «связь времён», генетическая или архетипическая, никогда не прерывалась в искусстве народов Сибири!
Ещё раньше, чем С.В.Иванов, обращался к проблемам генезиса и к интерпретации орнаментов М.П.Грязнов. Многое в личности этого авторитетного учёного, в самой даже его биографии и, конечно же, в его многочисленных трудах не перестанет интересовать и восхищать исследователей. По верному утверждению Вл.А.Семёнова, «методы исследования, осторожная манера изложения своей точки зрения выдавали в М.П.Грязнове учёного-позитивиста – представителя старой школы, сторонящегося сиюминутной конъюнктуры»[10]. Несмотря на то, что М.П.Грязнов специально не занимался изучением народного искусства современного традиционного населения Сибири, он понимал народное искусство, во всей его образной полноте и сложности, как яркое явление, тесно связанное с историей человечества, с мировосприятием, бытом и верованиями людей не только данного исторического периода, но и с их далекими предками. Неудивительно, в связи с этим, что именно М.П.Грязнов – автор метода ретроспекции, без которого сейчас, пожалуй, не мыслима ни одна действительно серьёзная исследовательская работа.
«Ретроспективный метод» М.П.Грязнова позволяет масштабно и всесторонне подходить к древнему искусству, являющемуся не просто частью всеобщей истории, но, собственно, истоком мировой художественной культуры. Способность мыслить ретроспективно, гармонично сочетающаяся в трудах М.П.Грязнова с типологическим подходом к памятникам древности, вывела учёного к систематическим комплексным исследованиям. Он умеет подчинить данные многих смежных с археологией наук (биологии, антропологии, зоологии, математики, искусствоведения, этнографии и фольклористики) одной, поистине великой, цели – как можно более полноценно, достоверно и красочно восстановить картину жизни народов, населявших Сибирь в древности. Вторая глава настоящей работы во многом опирается на теоретические выводы М.П.Грязнова. Его мнение играет решающую роль для искусствоведческого анализа тагарского оружия. М.П.Грязнов рассматривал особенности декоративно-прикладного искусства Минусинской «Курганной» (тагарской) культуры не только как «источник для решения вопросов периодизации, хронологии и этнической принадлежности археологических памятников, затем вопросов происхождения древних культур, культурных влияний и заимствований, культурного взаимодействия и мировоззрения, а с точки зрения изобразительных приёмов, техники»[11] не только во второй главе, но и потом, когда будет затронут скифо-сибирский звериных стиль, вновь возникнет необходимость обратиться к наблюдениям М.П.Грязнова. Не будет преувеличением упомянуть о том, какую огромную ценность представляют следующие слова, обращённые ко всем, кто занимается сибирским звериным стилем: «Хотя искусство ранних кочевников Алтая являлось декоративно-орнаментальным, было бы ошибкой думать, что древние художники в своих произведениях преследовали только декоративные цели и этому подчиняли выбор сюжетов. В основе искусства кочевников лежали образы мифологии»[12].
Возвращаясь к библиографии той части работы, рассматривается оружие тагарской культуры, стоит уделить внимание книге М.П.Завитухиной «Древнее искусство на Енисее. Скифское время», вышедшей в 1983 году. Это первое и единственное на сегодняшний день монографическое исследование, посвящённое отдельно тагарской культуре. М.П.Завитухина приводит последовательный систематический анализ предметов вооружения тагарцев, давая подробное чёткое описание каждому из них. Её труд представляет интерес ещё потому, что в нём содержится богатый изобразительный материал, в том числе – огромное количество иллюстраций, ранее нигде не опубликованных! В каталоге – не только полная характеристика предмета, но указано так же место и время находки, коллекция, инвентарный номер. М.П.Завитухина классифицирует изделия тагарской культуры не по формальному стилистическому принципу, не по принадлежности к той или иной утилитарной категории вещей, а по содержанию. Действительно, такой подход оказывается наиболее верным. Оказавшиеся таким образом в одной группе кинжалы, псалии, ножи, кельты воспринимаются уже не только (и не столько) с функциональной точки зрения – мы имеем возможность взглянуть на представленные объекты как на произведения искусства, объединённые одной идеей, проникнутые сходным настроением, связанные с определённой мифологемой. Отдельные разделы книги посвящены именно образу птицы, образу «грифона». Рассматривая исключительно образцы тагарского искусства, исследователь здесь не ставит целью проводить широких параллелей, не обращается к этнографическим данным, фольклору, к аналогиям в других культурах. Однако всё это не является в данном случае недостатками, потому что, не отвлекаясь от основного изучаемого материала, автор сосредотачивается именно на внутренних особенностях развития ремесла, художественного мастерства и образного мышления тагарцев. А эти вопросы мало изучены и особенно важны тогда, когда речь пойдёт о том, как строится и проявляет себя художественный образ в оформлении предметов вооружения тагарских воинов. М.П.Завитухина касается проблемы происхождения тагарского искусства его связи с предыдущими археологическими этапами исторического развития Хакаско-Минусинской котловины. Исследователь затрагивает весьма сложный и полемичный вопрос о значении карасукского наследия в частногсти для тагарского искусства и о его роли в генезисе скифо-сибирского звериного стиля вообще. Она пишет: «Карасукская и тагарская культуры развивались на одной территории Хакаско-Минусинской котловины, но относится к разным эпохам. Элементы преемственности отмечены для архаического периода тагарского искусства в использовании тагарцами образного и технического арсенала средств карасукской эпохи. Но тагарское искусство отличается от карасукского времени новыми элементами художественного стиля, увеличением состава образов, появлением целых серий различных категорий предметов, украшенных зооморфными изображениями»[13].
Посмотреть на тагарскую культуру масштабно, почувствовать наиболее примечательные её особенности позволяет недавно вышедшая монография «Изображения на плитах тагарских курганов», созданная коллективом авторов, среди которых Вл.А.Семёнов, М.Е.Килуновская, С.В.Красниенко, А.В.Субботин. Здесь содержатся интересные свежие данные о погребальном обряде тагарцев, который, как известно, отражает важнейшие мировоззренческие аспекты. Кроме того, опубликованные и атрибутированные изображения дают ценнейший материал для последующих поколений исследователей, позволяя проводить подробный искусствоведческий и культурологический анализ.
Стоит, пользуясь выбранным изобразительным материалом, пытаться понять как мыслили и чем жили древнейшие обитатели Сибири. Однако, прав был К.Г.Юнг, когда писал: «Нет ничего более уязвимого, чем научная теория; она – всего лишь эфемерная попытка объяснить факты, а не вечные истины»[14].
В ходе работы предстоит неоднократно убеждаться в том, что вечные истины были постигнуты, прочувствованы, пережиты древними мастерами и воплощены ими в замечательных по своей художественной целостности произведениях. А умение восхищаться наглядным претворением «вечных истин» гораздо достойнее, важнее и надёжнее, чем стремление их объяснить.
ГЛАВА I
Зарождение образа птицы в культуре древних народов Сибири.
Одним из древнейших видов изобразительной художественной деятельности и, пожалуй, первым визуальным способом коммуникации являеются петроглифы. В своебразной форме они донесли до наших дней информация о том, каково было понимание нашими далёкими предками вселенной, строения мира, жизни и смерти, а так же о том, каким было их пространственное мышление, какими средствами они выражали свои мысли, эмоции, ритуально-магические представления. Не стоит считать, однако, что эта информация подобна «мёртвому» языку, который можно дешифровать и сделать перевод наскального «текста», облекая мысль неолитического жителя с берегов реки Амур или реки Томь в привычные нам фонетические, грамматические и синтаксические структуры. Не стоит думать, что петроглифы – примитивные слабые попытки изобразить элементы окружающего мира исключительно в магических, заклинательных целях. Такая позиция, как правило, ведёт к несправедливым нападкам на создателей петроглифов с обвинениями в незнании законов перспективы, пропорций, в неумении передавать анатомическое строение людей и животных. Жаль, древнейшие мастера уже не могут ответить подобным «поборникам высокого искусства» встречным вопросом – «Зачем?» Действительно, синкретизм первобытного сознания нельзя даже пытаться постигнуть с позиций современного мышления. Необходимо мысленно встать на уровень эпохи бронзы или неолита и задать себе вопрос: «Зачем нужны правила перспективы, знание объёмов, пропорций, анатомии и так далее, если весь мир, космос, един, всё сопричастно всему, одна форма перетекает в другую, а жизнь и смерть – лишь разные вехи, ступени на пути блуждания между нижним, средним и верхним мирами?».
Так, исследуя петроглифы необходимо учитывать, что их создатели – носители особого мифопоэтического мышления. Такое мышление – целостно, монолитно в своей синтетичности. Поэтому и рассмотрение древнейших памятников изобразительной деятельности требует соответствующего, то есть синкретичного, подхода. Семантика изображения здесь неотделима от средств художественной выразительности, которые, в свою очередь, тесно связаны с уровнем развития ремесла, с пониманием пространства, с чувством ритма, с ощущением единения с природой. Вероятно, что сам камень, служивший для нанесения рисунка, почитался, был объектом поклонения, и (или) наделялся душой, а процесс выбивания изображения воспринимался как священнодейство. То есть, по сути, творческий процесс (как бы мы сейчас сказали) был ещё и ритуальным актом. Всё в природе и человеческом обществе в понимании древних и некоторых традиционных народов не просто взаимозависимо. Всё – сопричастно всему. Следовательно, глядя на Томскую писаницу или ангарские скалы надо помнить о знаменитом законе партиципации, (то есть сопричастности), выведенном Леви-Брюллем и основанный на коллективном представлении первобытных народов о нерасчленённости всех элементов мира. Конечно, понятно, что нельзя относиться к художественному явлению, которое является частью мифотворчества первобытных народов, с позиций современного европейского позитивного аналитического мышления.
В гносеологическом аспекте, мы стремимся к анализу, к разложению любого явления на частности, через частное познавая целое. А для первобытного мастера, создателя наскальных «полотен», познать мир – значит слиться с ним воедино, раствориться в нём, стать, вместе со всеми одушевлёнными существами (то есть, в анимистическом понимании – со всеми объектами окружающего мира вообще) его кровью и плотью, его внешним выражением и внутренним содержанием. Такая диффузность нерасчленённость мировоззрения творцов дописьменных эпох нашла прекрасное воплощение в образах наскального искусства. Без преувеличения можно сказать, что именно с петроглифов многие образы, изобразительные мотивы, композиции и сюжеты (сколь они ни были бы изменены и усложнены) перешли в дальнейшем в область декоративно-прикладного искусства или как орнаментальные мотивы, или в качестве самостоятельного изображения. В первой главе данной работы потому и уделяется внимание петроглифам, чтобы была возможность проследить, какими путями происходил генезис образа птицы у народов Сибири, с какими древнейшими мифологемами, архетипами связаны птицы в сознании носителей первобытных культур. А это необходимо для полноценного анализа в рамках затронутой темы!
В общем, многие изображения на петроглифах Забайкалья и Томских писаницах условно можно разделить на две категории. Одна из них – та, что имеет со временем (в последующие эпохи, даже – в других культура) трансформироваться в орнаментальный мотив. Другая категория – та, что тяготеет развиваться в целостный художественный образ, в высокохудожественное и содержательно насыщенное изображение. Так, первая категория более всего связана с изображениями, носящими знаковый характер, а вторая – собственно с образами. В любом случае, все наскальные изображения, размещённые в одной плоскости, составляют определённую изобразительную композиционную систему. Лишь для стороннего зрителя, для поверхностного взгляда они кажутся хаотичными, никак не связанными между собой. Но ведь и отсутствие системы – тоже своеобразная система. Опять же, то, что в нашем понимании «упорядоченная композиция» для людей неолита и бронзы могло бы показаться неправильным и, может быть, некрасивым и непонятным. Ощущение пространства меняется…со временем!
Структура художественного пространства петроглифов отличается неограниченностью, однородностью и отсутствием фиксированной глубины. По верному наблюдению М.Л.Подольского у наскальной изобразительной поверхности «нет центра и периферии, верха и низа. Соответственно, исключены иерархические отношения между различными фигурами»[15]. Этот вывод нетрудно подтвердить, если обратить внимание на то, что изображения птиц, относящихся к стихии неба (к верхнему миру), редко представлены в одиночку, а являются составляющими частями различных композиций. Они соседствуют с изображениями человечков, пятен, животных, оградок и т.д. Интересно, что птицы на Забайкальских писаницах показаны ни с боку, ни с верху, ни «в три четверти», а как будто «в разрезе», очень геометрично. Они напоминают аппликацию, точно вырезанное из какого-то материала изображения прикреплено к скале. На самом-то деле рисунки выбивались на поверхности камня так, что практически ямок от ударов не оставалось, и получалась ровная поверхность изображения. Так, первое, что следует отметить в манере изображения петроглифов – контурность фигур, важная роль силуэта, придельная плоскостность. Это есть вовсе не результат неумения передавать объём. Нельзя объяснять довлеющую роль контура в художественной выразительности, скудность арсенала изобразительных средств первобытных творцов. Источник такой манеры – само сознание, само мироощущение людей тех отдалённых эпох, когда господствовали анимистические представления и на каждом (!) лежала личная ответственность не только за свою судьбу, за судьбу своего рода, но за настоящее и будущее вселенной вообще. Подобно тому, как во всём мире ощущалась всеобщая сопричастность, нерасчленённость объектов и явлений, так и любое проявление жизни первобытного социума соотносилось с ритмом жизни окружающего мира. Искусство, то есть акт творения визуальных образов, могло составлять часть определённого ритуала, связанного с имитативной, промысловой, заклинательной магией. Поэтому, изображался не сам объект, не копия объекта, а суть, содержание или даже отдельный признак или характерная черта объекта. Контурность либо силуэтность как нельзя лучше отвечают этим требованиям. Благодаря аппликативности силуэтного изображения было возможно представить птицу в стандартной для многих первобытных скальных произведений позе парения в необъятном небесном пространстве. Если привести грубое сравнение языка изобразительного с законами языка разговорного, то перед нами – глагол. Своё внимание художник максимально концентрирует именно на передачи действия, наиболее характерного для птицы, то есть на полёте с широко распластанными крыльями. По-сути, перед нами изображение ни столько самого объекта, сколько действия, осуществляемого им. Ни одно объёмное изображение не способно передать движение так же информативно, как делает это упрощённая (в нашем понимании) геометризованная схема, график, но близкое к ним по своему характеру, по степени информативности, изображение – аппликативное, чёткое, плоскостное (двумерное). Что это? Разрез, демонстрирующий поразительное умение древних мыслить именно пространственно (ибо, из геометрии известно, что, не познав объём, не замерив все параметры, нельзя создать изображение чёткого разреза объёмного предмета!)? Или это просто условное изображение объёмных объектов, осуществленное плоскостно? Дать однозначного ответа нельзя, потому что в действительности нет способа постигнуть все тайны человеческого сознания, особенно когда речь идёт о сознании людей, живших около десятка тысяч лет назад. Как мыслил древний мастер, создавший рассматриваемые произведения? Задавая этот вопрос, мы отнюдь не аппелируем к примитивным схемам и законам, выведенным (а порой надуманным) современными психологами.
Мы подходим напрямую к вопросу об ощущениях, о влияющих на них факторах и о том, какое место эти ощущения занимали в творческом процессе. Всё это могло бы составить тему отдельного культурологического исследования! Однако не лишним будет обратиться в связи со всем сказанным к, пожалуй, древнейшим письменным теоретическим свидетельствам о зарождении изобразительного искусства – то есть к античным источникам. Самому Плинию (23 – 79 г.г.) приходилось констатировать тот факт, что вопрос о начале живописи не выяснен. Тем не менее, «первые шаги, по словам Плиния, в этом искусстве были сделаны либо египтянином Филоклом, либо Клеанфом из Коринфа, которые обвели тёмным контуром тень человека»[16]. Такую странную. На первый взгляд, гипотезу о происхождении искусства живописи высказывал не только автор тридцати семи книг «Естественной истории». «Афиногор – греческий философ II века н.э. – так же отмечает, что открытие искусства рисовать состояло в обрисовке тени. Так, художник Саврий с острова Самос обрисовал тень лошади»[17]. Поэтому, отнюдь не умозрительным может быть вывод о том, что первобытные мастера из Сибири поступали подобным образом, то есть обрисовывали тени объектов. У некоторых забайкальских «орлов», например, редуцированы шеи и хвосты, непомерно вытянуты крылья, а сам абрис фигуры представляет собой рваную линию. Такой могла быть тень, брошенная летящей в небе птицей на скалу в лучах солнца или в отсветах костра. При этом тень могла отождествляться с самой птицей, а вероятнее, представлялась как её душа. Вообще, тень птицы могла восприниматься как некое послание или благословение небес, так как она в отдельных случаях напоминает крест. Действительно, древнейшая семантика креста очень созвучна представлениям о птице. Именно с неолитических времён крест символизирует неразрывную связь жизни и смерти, духа и тела, а так же воплощает в себе схему вселенной, соотносится с плодородием, удачей, изобилием, некоей бесконечной протяжённостью и, одновременно, с мучениями, страданием, смертью. Символика креста амбивалентна. Он как бы объединяет в себе всегда два противоположных начала. Как пишет В.Н.Топоров, «основная мифологема, связанная с крестом, подчёркивает иное: человек (или божество), висящий на кресте и раскинувший руки по сторонам креста (иногда эта схема дублируется птицей с распростёртыми крыльями (ср., с одной стороны, соответствующий образ древа мирового, а с другой – голубя, в которого воплотился Дух Святой в христианской символике), умирает, чтобы через крестные мучения и крестную смерть возродиться к новой (вечной) жизни»[18]. Двойственная суть символа креста могла в первобытном сознании контаминироваться с образом птицы, которая умеет летать по небу, сидит на ветвях деревьев и ходит по земле. Поэтому, неудивительно, что изображения птиц на писаницах Забайкалья не просто силуэтны и плоскостны, а доведены до максимальной степени условности. Они выразительны в своей этой условности. И динамичны. Они несут мощное изобразительное эмоциональное и содержательно-информативное начало одновременно. Образ птицы универсален, в своём роде. Он встречается во многих культурах, как у древних охотников, так и у земледельцев и скотоводов. Птица – существо таинственное, загадочное. И здесь дело не только в бессознательной зависти человека к птичьей способности летать. Сила, ловкость, быстрота, стремительность небесных охотников (орлов, ястребов, коршунов) не могли не привлекать наблюдательных древних мастеров. А исчезновение некоторых видов пернатых осенью и их появление по весне было не менее удивительным, чем сама смена времён года. Это явление могло восприниматься как умирание и воскрешение, то есть опять здесь звучит лейтмотив, связывающий образ птицы со знаком-символом крестом. Но, не стоит полагать, что с архетипическим знаком креста соотносимы лишь хищные птицы, парящие в облаках с распростёртыми крыльями. Интересно упомянуть об изображении водоплавающей птицы на Шереметьевских скалах. На её груди выбит косой крест, который в данном случае может трактоваться как схематическое изображение вселенной, бесконечно протяжённой на все четыре стороны света. Согласно А.П.Окладникову, «знак креста в данном примере акцентирует творческую роль и космическую сущность шереметевской птицы. Он служит указанием на её активную роль в сотворении мира»[19]. То, что крест именно на груди, может отождествляться с сущностью. Суть этой птицы в её созидательной роли в космогонии, биение её сердца – ритм жизни вселенной. Вообще, во многих древних и современных этнографических цивилизаций и культурах образ водоплавающей птицы соотносится с актом сотворения мира. От Древнего Египта до Забайкалья и далее, к Алеутским островам, встречаются мифы о водоплавающих птицах демиургах и, соответственно, различные варианты их художественного воспроизведения. Гусь, утка часто является птицей, первоначальное место обитания которой – хаос. Это представление, вероятнее всего, обусловлено реальным их местом обитания: вода, болото, пруд – не что иное, как, выражаясь термином С.С.Аверинцева «эквивалент первобытного хаоса». Водоплавающие птицы умеют нырять. Так они обеспечивают себя едой, так укрываются от опасностей. Некая «перво» – утка (или – гусь) достала со дна первозданного океана ил, землю, сушу (в другом варианте – снесла яйцо – солнце). В общем, образ гуся (утки) через связь с водной стихией соотносится с хаосом и с появлением в этом хаосе суши, земли, на которой зародилась жизнь. Подобная мифологическая схема нашла отражение в устных устойчивых выражениях в некоторых языках, например, в китайском языке. При добавлении иероглифа [ qing ], указывающего на оттенок, к иероглифам [ya dan], переводимым «утиное яйцо», получаем значение «бледно-синий цвет». Если в русском языке этот цвет метафорически называют цветом «небесным» или «водянистым», то в Китае аллегорически указывается не на саму стихию даже, а через опосредованную связь водным обитателем – с уткой. При том, стоит отметить, «бледно-синий» – это вовсе не имеется в виду «цвет утиного яйца», как можно было бы подумать. В таком случае после иероглифов [ ya dan] непременно бы следовала притяжательная частица [ de ] . А поскольку такое сочетание в китайском языке не встречается, мы имеем здесь дело с древним устоявшимся выражением, запечатлевшем в себе архаические представления. Так, косвенно через ассоциацию с утиным яйцом, указывается на визуальное цветовое качество водной стихии, где утка обитает и выводит потомство.
Раз в языке могла возникнуть столь сложная цепь ассоциаций и сопоставлений, то, тем более, убедительно звучат слова А.П.Окладникова, писавшего о поражающих взгляд и воображение валунах Сакачи-Аляна: «Перед нами не простые обыденные лебеди и утка, а птицы, создавшие землю <…>, это они должны были нырять в воды мирового океана, чтобы достать оттуда камни и песок»[20]. Сходные с Амурскими по космогонической роли, но несколько различны по художественно-стилистической трактовке птицы Томских писаниц. Орнитоморфных изображений в районе реки Томь меньше, чем в Забайкальских местах. Зато здесь есть очень характерные, яркие, уникальные в художественном отношении образцы. Не может оставить равнодушным фрагмент Новоромановской писаницы, где выбита на поверхности скалы водоплавающая птица (гусь или утка), а рядом с ней – яйцо. При этом яйцо располагается у птицы прямо под хвостом, так что создаётся ощущение, что она его только что снесла. В одном из древнейших земледельческих мифов (Египет) говорится о том, как гусь высидел солнце, снеся яйцо, сидя на одном единственном островке суши в мировом океане. Именно этот космогонический мотив вспоминается при взгляде на простую, лаконичную, но очень выразительную новоромановскую композицию. Тем более, яйцо не овальной, а именно круглой формы, что роднит его с солярным знаком. Похоже, древний мастер передаёт здесь действие – перед нами совершается акт творения. Появление солнца, источника существования всего живого на земле, зарождение жизни Вселенной, преобразование хаоса в космос – все эти грандиозные события неолитический художник сумел изобразить, показав всего лишь две фигуры – птицу и яйцо! Наивно поступят те, кто обвинит этого художника в незнании перспективы, пропорций, в примитивизме. Разве можно называть примитивизмом столь чёткое, ритмичное, лаконичное выражение глубочайших, архетипических мифологем? Нет! Так же нельзя усматривать в схематизме и контурности сходство с детскими рисунками. Возможно, в детском творчестве так же имеют место быть некие архетипы, но у детей нет устоявшихся, сведённых в определённую систему представлений. В творческом наследии первобытных мастеров отчётливо проявляется их мировоззренческая система, неразрывно связанная с бытом, с жизнью первобытного социума, с магией и т.д. Новоромановская птица, прежде всего, есть выражение глубокой идеи – идеи творения, идеи рождения жизни. Конечно, пользуясь привычной терминологией, а точнее – неизбежным штампом любой искусствоведческой работы, можно сказать, что изображение выполнено «условно». Но что значит «условно»? Кто с кем и о чём «условился»? Просто так дали понять, что вот – птица, вот под ней яйцо? Условность в рассматриваемом изображении – суть не приметив, тем более – не результат неумения. Эта «условность» – своеобразный и весьма эффектный приём художественной выразительности, благодаря которому мастер сосредотачивает своё внимание и взор зрителя не на птице, не на яйце, а на том самом великом действе, на таинстве, что совершается здесь, сейчас, прямо у нас на глазах, и так же совершалось в далёкие мифические «правремена». Осознание, в чувствование во всё величие, донесённое до нас новоромановским творцом, приводит в восхищение, делает нас будто сопричастными в какой-то мере происходящему. Умение с помощью минимума средств выразить максимум идей и эмоций, привлечь внимание, – это и есть истинное мастерство, действительная гениальность!
Что касается композиционного решения рассматриваемого петроглифа, он так же подчинён главной задаче – передать само действи6е, движение. Композиция наполнена динамикой. Птица запечатлена в позе взлёта. У неё вытянутая напряжённая шея, туловище, устремлённость ввысь. Если мысленно провести прямую, соединяющую голову птицы с яйцом, то это будет чёткая диагональ. Оттого-то всё изображение несёт ощущение движения вперёд, ввысь. Первобытный творец интуитивно уловил то, к чему стремились много тысячелетий спустя мастера академизма, располагающие замысловатыми геометрическими расчётами, и мастера реализма, пристально изучающие действительность. Новоромановский мастер понял, вернее почувствовал, что в основе динамики в изобразительной композиции должна быть диагональ. И он блестяще справился с поставленной задачей.
Не менее интересна, чем новоромановкая, томская водоплавающая птица. Это тоже изображение птицы с яйцом. А.П.Окладников, описывая её, отмечает характерную для рисунка особенность: «птица выбита схематично в виде овала, от которого отходит вверх длинная линия шеи и небольшой клюв»[21]. Под птицей – кружок, выбитая сильным ударом о камень небольшая лунка, представляющая яйцо. Привлекает внимание здесь то, что туловище птицы само по себе яйцеобразной формы. Этот факт вызывает ряд ассоциаций, рассуждений и выводов. Во-первых, такое пространственное художественное решение не типично. Мастер не передаёт здесь ни позы парения, ни позы взлёта. Тем не менее, мы ясно знаем, что перед нами – водоплавающая, а не хищная, птица. Автор композиции даёт понять это просто, но эффектно и своеобразно – форма овала, обтекаемая, плавная форма, хороша для водной стихии, а не для стремительного полёта в охоте за жертвой в высоких небесных просторах, где нужна скорость стрелы с её острыми углами, резкими прямыми линиями, разрезающими воздух. Это верно знал и чутко сумел воплотить в своём искусстве древний охотник. Кроме того, овальное туловище птицы наводит ещё на некоторые размышления. Стоит обратиться к фольклору, перечитав, например, строки из эпоса «Калевала»: Из яйца, из нижней части,
Вышла Мать-земля сырая.
Из яйца, из верхней части,
Встал высокий свод небесный»[22].
Не значит, конечно, что создатели Томских петроглифов были носителями таких же представлений. Однако, сопоставление овальной формы с яйцом, а яйца с зарождением жизни, весьма устойчиво сознание. Так, создаётся впечатление, что в образе этой томской птицы произошла контаминация двух символов: собственно птицы, символизирующей творческое начало, и яйца – того пассивного по своей космогонической роли продукта, материала, из которого совершалось творение. Оба противоположных по своему характеру начала – активное и пассивное, космические первосубстанции – творец, материал и продукт творения в данном изображении слились воедино. Перед нами и творец, и творение одновременно! Для того, что бы создать такое, мастер, должно быть, обладал не только великолепным воображением, но и удивительной способностью к обобщению и лаконизму в выражении серьёзных космогонических идей, сложных мифологем. Обратимся к чисто художественным достоинствам образа. Его овальная обтекаемая форма успокаивает взор, даёт ощущение умиротворения, замкнутости, какой-то торжественной тишины. В то же время, образ исполнен патетического величия и внутренней скрытой динамики: вот-вот овал разомкнётся, разрушится замкнутость и развернётся пространство, возникнет Вселенная, явится небо, ляжет под ним земная твердь. Если в новоромановском образе космогоническая идея была выражена с помощью внешней композиционной динамики, то птица с Томской писаницы исполнена внутреннего движения, монолитной интровертной значимости; если первое изображение тяготеет к целостности и повествовательности художественного образ, то второе – к схематизму и символической выразительности орнаментального мотива. Ведь именно в орнаменте получают распространение стилизованные формы, восходящие в своей основе к какому-либо образу. Условный овал, круг, таким образом, могут иметь своим прототипом яйцо, туловище птицы и, одновременно, выступать солярным знаком (и в этом не будет противоречия, учитывая синкретизм первобытного мышления).
Трудно сказать, какой была аксиологическая школа в мире создателей петроглифов, однако, и с современных позиций, полагаясь на собственный эстетический вкус, необходимо отметить особое изящество, красоту, которыми отличается фигура журавля (или цапли) с Томской писаницы. Журавль исполнен в технике сплошной выбивки. Прерывистая линия силуэта на спине птицы словно показывает оперение. Длинные грациозные ноги выглядят сильными. Одна прямая нога выставлена вперёд, другая согнута так, что поза птицы очень устойчивая. Создаётся ощущение, что она шла неторопясь, и вот остановилась и что-то внимательно рассматривает. S-образная изогнутая шея придаёт фигуре пропорциональность в том смысле, что фигура не кажется громоздкой. Линия острого клюва, опущенного вниз, почти параллельна выставленной вперёд ноге. Это вносит в композицию размеренность, внутреннюю уравновешенность, и сообщает всему образу спокойную одухотворённость. Здесь нет ни экспрессивной динамики, ни интровертной, замкнутой сосредоточенности, как в двух вышерассмотренных композициях. В этом отношении томского журавля условно (с современных позиций) можно назвать «более реалистичным» (что ни в коей мере не принижает достоинств других петроглифов!). Возможно, связано возникновение такой манеры со следующими причинами. Во-первых, звучание образа журавля в космогонических мифах менее отчётливо, что известно из этнографии и фольклора. Хотя у некоторых народов с шагающим по болоту-хаосу журавлём (или цаплей) и ассоциировалось зарождение жизни из ила, который птица ворошила своим клювом, всё же основная семантическая роль этого существа в мифах чаще другая. Журавль, как правило, представлялся не демиургом, а в качестве хранителя плодородия и, вообще, любых благ. Практически во всех культурах указывают не на творческое начало журавля (аиста, цапли), а на его роль доброго вестника, предвещающего счастье, здоровье, любовь, верность. Известно, что в Китае журавль есть воплощение долголетия, мудрой и праведной жизни. Он соотносится и с водной стихией, и с небом. Существуют поверья, что он способен принести дождь с неба и сопровождает души умерших, воспаряющие в воздух, помогает им. Перечисленные функции журавля в мифах, суевериях и преданиях напрямую связаны и соизмеримы с его внешним обликом. Грация и благородство этой птицы не может не восхищать, а умение быстро, плавно и практически бесшумно передвигаться и по болотной топи, и по суше, и по воздуху не могло не заинтересовать практичного охотника, к которому «журавлиные» качества были бы весьма полезны. В этом – вторая причина столь реалистического изображения, как привыкли мы называть иллюзорную схожесть образа с его действительно существующим прототипом. Мастер данного петроглифа, по-видимому, здесь не ставил цели представить процесс возникновения вселенной, зарождения жизни и каких-либо иных космогонических явлений и метаморфоз. Перед нами, несомненно, образ символический, наполненный смыслом. Но поскольку этот смысл, скорее всего, связан с общими представлениями о благе, о жизни, о плодородии, о счастье (а, может, – о красоте!), то художнику и не следовало прибегать к лаконизму, к знаковости и к обобщениям. Главной задачей для него стало – отметить наиболее интересные и характерные черты птицы, которая сама по себе являлась носителем светлых начал, живым воплощением благих понятий. Так неизвестный мастер этого замечательного томского петроглифа создал поистине изумительный шедевр, достойный быть причисленным к ряду выдающихся творений мировой художественной культуры.
Интересен в художественном отношении и образ другой, более таинственной и менее грациозной, обитательницы болот и лесов – совы. Эта птица внушала страх, что нашло отражение в фольклоре, в суевериях многих народов. Сова (или филин), издающая загадочное «уханье» по ночам, с широко раскрытыми, словно гипнотизирующими глазами, воспринималась часто как вестник смерти, носитель плохих вестей. Томский мастер хорошо прочувствовал и сумел передать образ ночной хищницы. Её (его, если это филин) облик исполнен таинственного покоя и какого-то мрачного коварства. Большая голова не выделена отдельным силуэтом, она плотно прижата к туловищу, слита с ним. Острый клюв плавно переходит в линию надбровных дуг, а затем – в силуэтную линию туловища. Благодаря этому клюв выглядит выставленным вперёд, словно готовым нанести жертве смертельный удар. В широко поставленных глазах сквозит зловещее бесстрашие. Статичная уравновешенная поза, полная внутренней напряжённости и силы, производит впечатление готовности птицы к агрессивной атаке. Художник, выдержав в целом своё произведение в силуэтной форме, обращается здесь к весьма необычному изобразительному решению внутреннего пространства, являющегося телом птицы. Он не оставляет его пустым и не пользуется сплошной выбивкой. Маленькими выбитыми точечками и треугольничками он показывает рябое оперение совы. Мастер вовсе не стремился к объёмности и к иллюзорности изображенного, однако, благодаря такому художественному решению ощущается полное пушистое тело птицы. Первобытные творцы, как уже неоднократно отмечалось, стремились в своих произведениях уловить, передать и подчеркнуть самое характерное, главное свойство. «Рябость», «пушистость» и полнота – это те качества, которые придают сове яркую индивидуальность. Так, в образе томского петроглифа чувствуется трепет, удивление и восхищение древнего мастера перед изображаемым существом.
Жившие в гармонии с окружающим миром, первобытные люди умели находить общий язык не только с благоприятными, светлыми силами, но с тёмным, подчас враждебным человеку началом в окружающем мире. Поэтому, вряд ли в изображении совы можно усмотреть устрашающий образ, некую сублимацию первобытного страха перед смертью и другими злыми стихиями. Скорее всего, представляя вестницу смерти над стаей лосей, древний мастер уповал на успешный итог охоты. Кроме того, и в фольклоре образ совы или филина не всегда связывается с идеей смерти. А.П.Окладников пишет о том, что «известно вместе с тем и другое магическое значение филина в устном народном эпосе. В частности, в эпосе бурят филин иногда выступает в роли охранителя детей и домашнего очага»[23]. Так что, может быть перед нами вовсе не воплощение враждебных сил, а грозный, сильный, таинственный, яростный заступник и помощник человека, его верный охранитель и своеобразный боевой талисман первобытного охотника.
Теперь, ознакомившись с образами древних петроглифов Забайкалья и реки Томь, сделаем широкий шаг во времени – обратимся к небольшому экскурсу в средневековый мир и к этнографически изучаемому времени. Это позволит ощутить всю ту силу, что заключена в петроглифах, даёт возможность убедиться в том, что древние изображения на скалах – не мертвенная архаика, не «примитив», а своеобразная классика, лёгшая в основу изобразительных традиций последующих поколений, народов, генетически напрямую не связанных с создателями неолитических писаниц. Здесь речь идёт не о заимствованиях, не о вопросе происхождения того или иного мотива, а о той общности духа и мироощущения, что связывает многие народы, живущие в гармонии с окружающим миром, полным загадок, чудес, враждебных и благих духов и стихий. Образ птицы в различных своих ипостасях – это, как уже отмечалось не единожды, яркий, глубо укоренившийся в человеческом сознании архетип. К.Г.Юнг, собственно автор этого выразительного ёмкого и удобного термина, писал: «Архетипы не имеют определённого происхождения; они воспроизводят себя в любое время и в любой части света, – даже там, где прямая передача или «перекрёстное оплодотворение» посредством миграции полностью исключены»[24]. Швейцарский мыслитель был прав! Подтверждается блистательная идея К.Г.Юнга в нашем случае тогда, когда мы внимательно рассматриваем предметы декоративно-прикладного искусства орочей, нанайцев, удэгейцев и сопоставляем стилизованные и орнаментальные композиции на них с образами наскальных изображений. Сходство обнаруживается не столько визуальное, в манере исполнения, сколько смысловое и эмоциональное. Из какого бы птицы ни были сделаны материала – из бересты, дерева, рыбьей кожи – их прорисовки производят впечатление петроглифических изображений. Можно сказать даже, что в некоторых образцах орнамента эвенков и удэгейцев проступает неолитическая основа! И это – суть не преемственность или подражание, а результат схожести мировоззрения и жизненного уклада. Хотя, наверняка, отдельные элементы узоров несут из поколения в поколение отголоски древнейших времён.
Среди изображений птиц в орнаментах народов Сибири есть лебеди, утки, орлы и петухи. Иногда фигуры достигают такой степени стилизации, что птиц практически невозможно узнать – клюв удлиняется и загибается и туловище с хвостом превращается в огромный декоративный завиток, как на рисунке 9 (2-6; 8;9). Такие похожие на ленточные спирали с изящными завитками на концах орнитоморфные мотивы созданы ульчискими мастерами XX столетия. Эти берестяные трафареты и трафареты из рыбьей кожи хранятся в коллекции прославленного исследователя Сибири С.В.Иванова. Возможно для ульчиского мастера они не более чем прекрасный узор, такой же, какой умели создавать его деды и прадеды. Но, несомненно, что эти узоры несут в себе значительные, глубокие космогонические идеи. Симметричная композиция из двух водоплавающих птиц, словно выходящих друг из друга и создающих пространство вокруг себя, явно указывает на демиургическую роль этих существ. Подобные орнаментальные мотивы есть у нивхов (Ил. 9-1, 11), негидальцев (Ил. 9-7), орочей (Ил. 9-10) и нанайцев (Ил.9-12). Все они, даже небольшого размера, смотрятся масштабно, как-то особенно величественно. Ясно, что они проникнуты пафосом творения, вдохновлены древнейшими мифами. Есть и более фигуративные изображения у нанайцев и ульчей. Их называют многие исследователи петушками. Однако, даже если мастера, выполняя изображения, и имели в виду петухов, то всё равно, это не совсем петухи. Разве петух станет брать в клюв целую большую рыбу? Эти сильно орнаментализованные изображения представляют водоплавающих птиц. На сходство многих из них с птицами Забайкальских и Амурских петроглифов обращал внимание А.П.Окладников. Он писал, что «внимательно приглядываясь к образцам орнамента, изданным Лауфером, можно обнаружить изображения таких же, как на петроглифах, водоплавающих птиц, гусей, уток или лебедей. Сюда относятся, например, рисунки птиц на бумажной вырезке, изданной в книге Лауфера, где видно полное сходство с фигурами водоплавающих птиц на петроглифах в селе Шереметевском»[25]. В силуэтном отношении близки к петроглифам «розетки» в форме летящих птиц, выполненные нанайцами, несмотря даже на дробную декоративную разработку внутреннего пространства. Аппликативность – черта, имевшая место быть в петроглифах, стала в декоративно-прикладном искусстве доминирующей. И не только тогда, когда перед нами собственно аппликация, вышивка или рисунок, мы встречаем силуэтное изображение. Силуэтны, по сути, даже объёмные вещи. Таковы бронзовые предметы из развеянных погребений близ улуса Чаптыкова и другие образцы тюхтятской культуры в Хакаско-Минусинской Котловине. Стилизованные в виде фигурок уток застёжки IX – X веков напоминают забайкальских неолитических птиц по своему силуэту. Вытянутая шея, показанное в виде сверху уплощённое туловище, стилизованный небольшой хвост, отчётливый абрис, чувство ритма – всё это показывает, что мастер плейстоцена и средневековый ремесленник мыслили почти одинаково. Только разный материал и функциональное назначение послужили причинами для возникновения различий в изображениях; в изобразительном языке средневековья появляется уравновешенная плавность линий и стремление к выработке стандартных орнаментальных мотивов, таких как завитки, спирали, каплевидные и сердцевидные узоры. Сама идея – передать движение, полёт, очень сближает мастеров разных эпох и народов. Интересно редкое изображение сидящей птицы есть среди изделий тюхтятской культуры. Это бронзовая фигурка петушка на лотосе. Удивительно, что её высота равна всего двум сантиметрам, а выглядит она точно монументальная статуя! Изображение явно связано с какой-нибудь старинной легендой или космогоническим мифом. Традиции многих народов слились здесь в образе, который является древнейшим архетипом. Мотив лотоса – отголосок влияния буддистского Востока, хвост птицы исполнен явно по-ирански, но в общей статике и уравновешенности форм, в ясном силуэтном решении сквозит тоже чувство таинственной величественности, спокойствия, внутренней мощи и силы, т.е. те же черты, что мы отмечали в изумительном изображении совы с Томской писаницы. Там перед нами предстал могущественный грозный хранитель и защитник, наводящий страх и таинственный обитатель ночных болот, а здесь – тоже сильный и загадочный образ птицы, связанной не с тёмным, а со светлым началом. Возможно это олицетворение жизни, рождения, блага и просветлённой мудрости. Кстати, клюв–то у «петушка» совсем не петушиный, а утиный, что тоже следует учитывать, трактуя это изображение! В тюхтятской культуре известны ещё мотивы водоплавающих птиц со скрещенными шеями – геральдическая, можно сказать, композиция. Исследователь хакасского искусства и культуры Л.Р.Кызласов пишет: «Среди почитаемых птиц часто встречаются водоплавающие (гусь, утка) – символ единства, союза между землёй, водой и небом. Образ гуся фигурирует и в героическом эпосе народов Южной Сибири. Кроме того, в алтайском мифе добрый дух Ульгень представляется в виде птицы – светлого гуся или утки»[26]. На небольшом, всего 5 см высотой сосуде из развеянных погребений близ улуса Чаптыкова на Абакане переплелись шеями два гуся. Выразительность пластического решения их гибких фигурок с линейно-сетчатой штриховкой, показывающей оперение, сочетается здесь с графичностью и силуэтностью, с геометрическим лаконизмом, что был свойственен изображениям водоплавающих птиц на петроглифах. В Китае птицы со скрещенными шеями означали пожелание семейного благополучия, супружеской верности. Переплетённые шеями утки или гуси могут трактоваться и как символы счастья, и как выразительные символы тесного единства стихий и сил, управляющих законами, по которым существует всё живое во Вселенной.
Параллели, проводимые между петроглифами неолита и культурами средневековья и этнографического времени, приводят нас к народному искусству Тувы. С.В.Вайнштейн прямо указывает на сходство силуэтных фигурок парящих птиц, чёрной краской, нанесённых на верхнюю часть деревянных бочонков из могильника Кокэль, с почти такими же птицами с наскальных росписей Забайкалья и Амура. По мнению учёного «не исключено, что изображения парящих птиц на бочонке из Кокэля имело не столько декоративное, сколько культовое значение и охранительную символику. У многих народов Сибири рисунки и фигурки птиц, особенно хищных, считались по воззрениям шаманистов вместилищами духов – покровителей и защитников»[27]. Кокэльские птицы выразительны в своей лаконичной схематичности так же, как их неолитические двойники. Туловища их вытянуты вертикально, плоскостны. Распростёртые крылья немного изогнуты, что привносит в позу долю напряжения и создаёт ощущение динамичного полёта. Голова птицы повёрнута вправо – так же как у некоторых забайкальских парящих орлов.
Подобные изображения птиц встречаются и в современном тувинском искусстве. Интересно, что в отличие от нивхов, орочей, удэгейцев, т.е. своих северо-восточных соседей, тувинцы в средние века и позднее изображали птиц максимально похожими на неолитические петроглифы, менее всего, прибегая к стилизации и выработке устоявшихся орнаментальных мотивов. Это, возможно, связано с архаичным типом мышления этого народа и с тем, что мастерам более важна была семантическая нагрузка образа, нежели его декоративно-ритмическая выразительность.
Глава, посвящённая генезису образов птиц в искусстве Сибири, будет неполной, если отказаться уделить внимание немногочисленным, но очень привлекательным и необычным образам птиц в искусстве окуневцев, населявших Хакаско-Минусинскую Котловину в эпоху ранней бронзы. Мировоззрение окуневцев, по-видимому, впитало в себя и развило те древнейшие представления, которые имеют глубинные местные сибирские корни. В арсенале Окуневского искусства множество таких изобразительных средств, которые в полной мере воплощали их сложнейшие мировоззренческие установки, космогонические представления и потрясающую фантазию, подпитываемую, вероятно, чётко разработанными ритуально-мистическими практиками, а так же синкретическими представлениями о душе, духах, жизни и смерти. Трудно сейчас полагать каковы были эти представления. Ясно одно – они были богаты по своему содержанию, глубоко символичны и эзотеричны, о чём красноречиво свидетельствуют образы пластики и графики. Убедительно мнение исследователей о том, что у окуневцев существовала вера в перерождения, в переселение душ. Некоторые знаки (круг с фиксацией его четырёх сторон, косой крест и т.п.) и приёмы художественной выразительности (полиэйкония, наличие билатерально рассечённой композиции) – это, по справедливому мнению В.А.Семёнова, «позволяет видеть здесь идею рождения – перерождения»[28]. Образ птицы редко встречается среди фантастического бестиария Окуневских персонажей. О том, какое место занимала птица в космогонии окуневцев и что за роль была отведена ей в мире духов можно лишь догадываться! Этому слишком трудному и спорному вопросу можно было бы посвятить отдельные исследования, что позволило бы глубже понять древних обитателей Хакаско-Минусинской Котловины. В полном смысле уникальное изображение птицы представлено на погребальной плите под № 5 (Каракол). Антропоморфная фигура в центре плиты словно на глазах у зрителя превращается (перерождается?) в хищную птицу с мощными когтистыми лапами. Раскинутые руки вот-вот станут крыльями, исчезнет верхняя часть туловища, появиться шея и голова с острым клювом. Явно, что происходящее связано с темой смерти – рождения. Возможно, такие метаморфозы происходят с душой умершего. Слева от фигуры поражающее своей жизненностью и пластической выразительностью изображение птицы. По-видимому, перед нами ворон, исполненный в манере, которую мы не встречали ни в неолитических петроглифах, ни в декоративно-прикладном искусстве народов средневековой Сибири и этнографического времени. Окуневский мастер проявил здесь свою творческую индивидуальность, блистательную наблюдательность и поэтичность. В чём суть этой завораживающей поэзии, в чём секрет потрясающего магнетизма? Дело в том, что неизвестный художник приложил максимум духовных и технических усилий для воплощения в подлинно реалистическом рисунке птицы сложного мифологического явления, понятия или процесса. А, по словам Иохана Хейзингэ, «олицетворение бестелесного начала есть душа всякого мифотворчества и почти всякой поэзии»[29]. Поэзия, изобразительная поэтика, мифология и ритуальная практика – всё это составило в эпоху неолита и бронзы единый синкретичный культурный комплекс. Поэтичность же каракольского ворона нашла выражения и в плавном обтекаемом силуэте, и в ритмичных тонких линиях, коими показано оперение и хвост. Птица представлена в позе готовности к полёту, она расправила крылья, напрягла когтистые лапы и вот – вот взлетит. Архетип ворона широко распространён как в мифологических системах многих традиций народов, так и в поэзии, прозе, в современном кинематографе. Он своим пронзительным криком кличет злых духов, является вестником зла, его чёрная окраска иногда воспринимается как указатель на его связь со стихией огня, с пеплом, с дымом. В тоже время – ворон – долгожитель может договариваться с демонами загробного мира, он мудрый, вещий и проницательный медиум между жизнью и смертью, между мирами, между небом, землёй, подземным царством. У палеоазиатов (чукчей, коряков, ительменов) бытует в различных вариантах красивое сказание о том, как ворон пробил клювом небесную твердь в первоначальные времена, и тогда мироздание осветил свет солнца, луны и звёзд, т.е. обладает ворон и функцией демиурга. В связи с нашим изображением интересно замечание Е.М.Мелетинского по поводу мрачной стороны образа ворона: «Как трупная птица чёрного цвета со зловещим криком ворон хтоничен, демоничен, связан с царством мёртвых и со смертью, с кровавой битвой (особое развитие получает мотив выклёвывания глаз у жертвы)»[30]. Огромная полиэйконичная фигура с элементами антропоморфного и орнитоморфного характера, может быть превращается в птицу, и, что тоже вероятно жертва и расклёвана птицей – вороном. Ворон мог выклевать глаза и забрать их с собой (на это, возможно, указывают три точки на туловище птицы). Если такая гипотеза близка к истине, то на пятой каракольской плите представлен процесс, связанный с космогонией, с зарождением жизни, а ворон выступает в роли демиурга, похитившего глаза (вместилище жизненной силы) у хтонического чудовища, чтобы из них создать светила, миры (три точки!) или души живых существ. Здесь вспоминаются некоторые небезызвестные нганасанские представления о том, что живым может называться всё, что имеет глаза. М.Д.Хлобыстина пишет: «Сейме – глаза у нганасан называется так любой эмбрион, зародыш будущей жизни. Глаза же родила именно Мать – Земля. Восьмидесятилетняя нганасанка так объясняла этнографу процесс зарождения жизни: «Моу нямы, Мать – Земля, много глаз в себе носит. Как баба, олень или собака пуста будет – им в брюхо глаза кладёт»[31]. Кстати, показательно, что точки – «глаза» выбиты у каракольского ворона – именно на брюхе. Однако утверждать то или иное толкование фантастической каракольской композиции мы не вправе. Просто перед нами – прекрасное произведение искусства, порождённое мощным воображением людей, которые умели чувствовать свою неразрывную слитность с природой, с космосом, и могли отождествлять себя со всем, что только есть в окружающем мире, видеть часть себя самого во всём и ощущать полноту всего мира в своей душе.
Продолжая экскурс в мир Окуневских образов, нельзя обойти вниманием знаменитую стелу с реки Аскиз, найденную Э.А.Севастьяновой. Эта монументальная плита красновато-коричневого песчаника насыщена палимпсестными изображениями. Первый слой палимпсестной композиции – антропоморфная личина, пересечённая двумя параллельными поперечными линиями, с огромным вытянутым ртом, словно изрыгающем языки пламени, личину перекрывают две грозные фигуры фантастического хищника в рентгеновском стиле. Лапы у миксантропического существа трёхпалые, птичьи. Они сильные и цепкие, кроме того, ими удобно раздирать жертву и ходить по топким болотам! Выше двух «прозрачных» существ – фигурки двух птиц. Обратим внимание на их расположение – их место в композиции. Они, во-первых, помещены мастером симметрично, по обе стороны от центрального «луча», отходящего вверх от «третьего глаза». Во-вторых, силуэтные линии спин птиц вторят абрису «скелетных» зверей. Таким образом, в художественном отношении изображения птиц выполняют роль гармонизирующего элемента, объединяющего композицию, как бы скрепляющего два палимпсестных пласта. Это, по-истине, оригинальный изобразительный ход! Какую же роль играют изображения этих птиц в отношении семантическом? Такой вопрос гораздо труднее – визуальная интуиция здесь не поможет. Хотя, вполне вероятно, что подобно композиционному предназначению, роль птиц в данной сцене имеет характер объединяющего начала, т.е. мы видим здесь неких медиумов между мирами, между миксантропическим животным и обобщённым антропоморфным космосом.
Другие заметные среди Окуневского бестиария орнитоморфные изображения – на одной из плит могильника Тас-Хаза, опубликованной впервые Липским в 1961 году. Рядом с личиной «с антеннами» представлены два миксантропических существа с человеческими руками и ногами, с волчьим или лисьим туловищем и с головой хищной птицы. Глядя на эти фигуры фантастические фигуры, невольно приходится вспомнить знаменитые рельефы в храме Рамзеса II в Фивах (XIII в. до н.э.) и на стенах некоторых гробниц, где представлен бог мудрости и счёта Тот с головой павиана. Его ещё называли «владыка времени», потому что отвечал он за календарь, за смену дня и ночи, а также «языком бога Птаха», так как ему вверялась в попечение вся интеллектуальная жизнь Египта, особенно – письменность и библиотеки. Нас здесь интересует более всего так сказать «второстепенная» обязанность египетского птицеголового бога – охранять и вести душу покойника в загробный мир. Характерно, что у всех народов есть представление о том, что птицы связаны с загробным миром и выступают в роли психопомпов, т.е. «сопроводителей душ». Это древнейший архетип, одно из визуальных воплощений которого предстаёт и на рассматриваемой сцене. В художественном отношении изображения восхищают своей удивительной пластикой. Если иератическая поза египетского Тота несёт в себе ощущение прочности и незыблемости божественной иерархии, то изгибающиеся, словно в таинственном ритуальном танце, фигуры окуневских существ вполне соответствуют космогоническим идеям обитателей степей Сибири. Здесь нет чёткой, раз и навсегда определённой иерархии, нет фиксированных изобразительных канонов и композиционных схем, зато есть блистательная оригинальность фантазии, проникнутой мыслями о непостоянстве бытия, об изменчивости всех форм, о всеобщей одушевлённости и о том, что Леви-Брюлль называл сопричастностью (participatio). Крупная орнито-антропоморфная фигура в центре композиции изящно изогнулась, подалась вперёд, точно навстречу другому такому же существу более мелких размеров. Последнее, с тонкими грациозными длинными ногами, подаёт что-то в клюв большого существа. Что это – сцена кормления, символического магического посвящения, передача сакральной энергии? Точного ответа нет, как, впрочем, всегда, касательно Окуневских персонажей. Однако, композиция поражает красотой гравированных линий и динамичным ритмом.
Кроме фантастических существ есть здесь и прекрасное по своей жизнеподобности изображение. В пространстве между рукой птицеголовой фигуры и антенной личины – выбито вертикально поставленное туловище вполне реальной птицы, по всем признакам напоминающей балобана, занесённого в Красную книгу РФ, редкого степного сокола, обитающего и сейчас в республике Хакасия, в районе озера Улугхоль, между Уйбатом и Салбыком. Цепкая лапа птицы выставлена вперёд. Ясно, что она хочет зацепиться за что-либо, но нет ничего подходящего. Впереди – огромные антенны личины, вряд ли подходящие в качестве шеста. В связи с этим изображением возникает ряд вопросов. Оно как бы «выпадает» из композиции, кажется лишним, вносит диссонанс… Но эти ощущения – плод современного эстетического вкуса. Надо помнить, что в искусстве вообще, особенно в первобытном, нет ничего случайного, ненужного, лишнего. Тем не менее, есть странное, удивляющее и непонятное. Таково и это изображение. Почему так чётко вертикально изобразил мастер туловище сокола? Может, рисунок появился позже вышеописанных изображений? Если так, то зачем его дорисовали, да ещё не на «свободном месте», а предпочли поместить в столь тесном пространстве? Остаётся лишь догадываться. Делать предположения опять же помогает обращение к семантике образа птицы. Вероятно, она со своим реалистическим обликом вестник зримого мира в мире потустороннем, проводник чьей-то души в загробный мир. Потому-то она и «выпадает» из композиции, моделирующей ирреальные метаморфозы мира духов. Она – некий медиум, между мирами находящийся, однако в ином измерении, порождённый иной пространственной средой, не той, где протекает существование удивительных миксантропических существ.
Птица – своеобразный катализатор в межпространственных реакциях, в этих причудливых диффузиях. Учитывая всепроникающую силу мистической партиципации, формы одних миров перетекают в другие, одни пространства или формы порождают другие и, по-видимому, птицы играют важную роль в этих процессах.
Окуневцы, обладающие развитой сложной мировоззренческой системой, воплотили в чудесных образах своего по-истине высокого, уникального искусства древнейшие и глубочайшие по своей силе архетипы. Подойти, хотя бы на несколько шагов, приблизиться к пониманию окуневского искусства и культуры – значит, многое осознать и открыть в области изучения первобытного мира в целом. Так, мы убедились на немногочисленных, но выразительных примерах насколько важна трактовка образа птиц окуневскими мастерами в контексте изучения орнитоморфных изображений на территории Южной Сибири.
В этой главе, где были затронуты произведения эпохи неолита и ранней бронзы, а также некоторые важные этнографические параллели, птица предстаёт то в роли демиурга, то в качестве носителя светлых или, наоборот, тёмных начал, то ассоциируется с мудрым посредником между стихиями, властителем воды, воздуха и неба, то представляется таинственным медиумом между мирами, проводником душ.
Все эти сложные и разнообразные функции пернатые не утрачивают в последующие исторические эпохи, однако позднее уже в развитом бронзовом веке, так называемое скифское время, у птиц появляется ещё одна важная ипостась, которая постепенно становится доминирующей. Птицы выступают быстрокрылыми отважными хранителями силы и удачи, помощниками бесстрашных воинов.
Речь о них и пойдёт во второй главе, посвящённой тагарской эпохе, породившей суровое и величественное искусство.
ГЛАВА II
«Быстрокрылые хранители силы и удачи» –
образы птиц в тагарском изобразительном искусстве.
«Всё, что меня не убивает, делает меня же сильнее»… Это знаменитое высказывание немецкого философа Ф.Ницше, стоит думать, мог бы произнести и любой воин скифской эпохи.
Культура, о которой речь пойдёт в этой главе, находится в скифском мире, а точнее в мире «ранних кочевников» (по удачному определению М.П.Грязнова) своеобразна. Она поражает своей величественностью, яркой мощью, такой же, какая заключена в многочисленных курганах и в массивных плитах – каменных оградах колоссальных погребальных комплексов. Ещё Д.С.Мессершмидт и Ф.И.Стралленберг практически в начале XVIII века первые европейцы, исследовавшие Сибирь, были удивлены обилием этих мегалитов. Утверждая вертикаль среди просторных хакасских степей, огромные камни словно бросают вызов виднеющимся в отдалении горам, подобно тому, как скифские воины приводили в трепет своих противников.
Действительно, всё в тагарской культуре пронизано духом воинственности, ощущением колоссальной силы. Ведь каждая плита в ограде, например, Салбыкских курганов весит не менее 30 тонн. Камни доставлялись сюда из карьера, расположенного на расстоянии почти двадцать километров. Каким терпением, волей, духовной и физической мощью должны были обладать эти люди, для того, чтобы пусть даже волоком тащить гигантские глыбы?!
Силуэты огромных плит песчаника и гранита, стёсанных наискосок, на фоне ясного синего неба гордо возвышаются над степью. Так выразили тагарцы факт своего существования, утвердив власть над этими землями и отдав почтение духам и космосу. К сожалению, об образе жизни мифологических представлениях этих людей известно совсем немного. Даже век, когда сложилась эта культура, сменившая более древнюю карасукскую, точно не определён. Одни исследователи указывают на IX век до н.э., другие – на VIII век до н.э. Пожалуй, единственный наглядный источник, где можно «прочитать» о повседневной жизни тагарцев – это небезызвестная Боярская писаница. Так, мы знаем, что их хозяйство было комплексным и включало скотоводство, охоту, земледелия (с использованием искусственных оросительных систем!), металлургию и, конечно же, военное дело. О важной роли последнего верно написано в книге «Древности Аскизского района Хакасии»: «Тагарская эпоха была очень яркой в истории евразийских степей – эпоха появления рыцарства. В связи с этим воинский статус мужчины стал ритуальным и даже сакральным»[32]. Отдельные исследователи склонны называть устройство тагарского общества «военной демократией». Нет, это было нечто большее, то, что нельзя определить строгим научным термином, нельзя загнать в условные рамки.
Всё искусство тагарского времени насквозь пропитано суровой поэтикой битв. Каждый штрих, любой силуэт точно звучит в унисон боевому грозному кличу! При внимательном рассмотрении тагарские находки производят по-истине захватывающее впечатление. Геометризм форм, который отличает тагарские бронзы, – вовсе не является результатом тенденций к условности в искусстве, но есть яркая закономерная часть лаконичного языка средств художественной выразительности. Особое чувство декоративизма (не в смысле «украшательства», но как способ художественной обработки поверхности изделия) присуще тагарским мастерам. Оно в полной мере нашло выражение в оформлении особенно важных, почитаемых степняками предметах материальной культуры: выразительность ритма в декоре минусинских боевых ножей и кинжалов приковывает взгляд, заставляя вглядываться в орнаментальные линии и узнавать в них вполне реальные зооморфные образы.
Интересно, что практически невозможно систематизировать ножи, чётко поделить их на определённые группы. Даже если имеют место быть некие инварианты, композиционные принципы или повторяющиеся орнаментальные мотивы, то всё равно каждое изделие индивидуально, наделено каким-то особым своим характером.
Поистине неповторимо, например, оформление ножа из коллекции И.А.Лопатина, найденного близ села Шошино. И в тоже время здесь много характерного именно для искусства подгорновского (раннетагарского) этапа (VIII – VI вв. до н.э.) – мастер активно использует круглые глубокие отверстия в качестве изобразительных элементов. Как отмечала М.П.Завитухина, «на ранних образцах голова птицы схематизирована и стилизована, очень часто глаз показан круглым отверстием, клюв изогнут, на его конце так же помещено отверстие»[33]. Здесь посредством схематичных глубоких линий переданы очертания четырёх поднявших головы птиц. Оперение птиц мастер даёт почувствовать при помощи лёгкой ритмичной штриховки. Собственно, чтобы узнать в этом изумительном узоре птиц, необходимо напрячь воображение. Присмотревшись к рукояти ножа, видимо, очень удобного для ведения ближнего боя, мы обнаруживаем образы существ, сочетающих в себе грозность, стремительность (что выражено в ритмичном построении рисунка) со спокойной, гармоничной красотой. Линия, соединяющая глаз с закруглённым клювом, а так же вся силуэтная линия, образует S- видный завиток. Английский теоретик искусства и график Уильям Хогарт (1697 – 1764) назвал линию латинской буквы S «линией красоты». И был прав. В ней есть и ритм, и гармония! И динамика, и статика в композициях, где присутствует подобный элемент, уравновешиваются и оставляют у зрителя ощущение жизненности изображения, внося в строй художественного произведения ясность, чёткость, а главное – завершённость. Мастер тагарского времени сумел создать произведение, где чувство прекрасного достигнуто интуитивно, передано лаконично и неразрывно связано как с функциональным назначением изделия, так и с общим характером суровой и прекрасной эпохи «ранних кочевников». Скорее всего, изображение фигур птиц, словно переходящих одна в другую, должны были оберегать воина, давать силу и ловкость, что присущи хищной птице, руке бойца, и, в случае его гибели, сопроводить душу павшего в бою храбреца в иной мир. Не случайно, стоит думать, фигур птиц на рукояти четыре. Четыре стороны света, четыре стихии…Это число-архетип, ассоциирующийся с некоей устойчивостью, с закономерностью, с гармонией и порядком. Кстати, на рукояти другого тагарского ножа, из деревни Калы, радиально размещены именно четыре птичьи головы, две из них – клювами вверх, две – клювами вниз, а между их контурами четыре сквозных отверстия в форме капли, напоминающей глаз хищника. По верному наблюдению Вл.А.Семёнова, «с помощью четырёхчастных структур классифицировались и описывались элементы мира. В отличие от трёх, четыре образуют статическую целостность, идеально устойчивую структуру»[34]. Шошинский нож исполнен в очень индивидуальной манере. И, таким образом, сочетая типичные для тагарского искусства черты с оригинальными художественными находками мастера, он по праву может быть назван одним из замечательнейших шедевров среди тагарских бронз.
S-образный мотив нашёл своеобразное и выразительное воплощение и в другом произведении раннетагарского времени – на вкладыше ножа из коллекции П.Н.Корнилова, найденного близ деревни Койча и датированного VII веком до н.э., фигура птицы, представляющая собою изогнутую скульптурную, можно сказать, геометрическую фигуру. Перед нами извивающаяся линия, словно бы гипербола, плоская кривая, обличённая в объём. Тем не менее, мы узнаём сразу же в ней хищную птицу. Художник достигает тут высшей степени обобщения, игнорируя какую бы то ни было детализацию, но не утрачивает выразительности и ясности. Мастер изобразил не знак, не условный бессмысленный декоративный элемент, а целостный образ, поражающий монументальностью, грозностью своего звучания (при столь-то малых размерах!). Похожая на рассматриваемую скульптурную фигуру есть и в гравировке, на рукояти ножа из могильника Туран II (курган 2, могила 1), раскопанного А.Д.Грачём в 1963 году. Однако, этот более поздний образец, относящийся к IV веку до н.э., утратил первозданную свежесть и непосредственность. Кроме того, туранский нож, к сожалению, до нас дошёл в очень плохой сохранности, и судить о его художественных достоинствах крайне трудно. На корниловском вкладыше фигура птицы, грациозно повернувшей назад голову, вытянувшей шею и опустившей хвост идеально вписана в круг. В подобной композиции слышатся отголоски космогонических мифов, ощущается преклонение перед реальной и магической силой пернатых, а так же чувствуется желание заручиться надёжной защитой и поддержкой небесного хищника. В связи с этим то, что фигура птицы заключена в кольцо, представляется вполне систематичным. Круг – это геометрическая модель бесконечности, рассматриваемая во многих культурах как Космос и противопоставляемая Хаосу. Пифагору грезилось «звучание сфер» (именно – сфер!) – идеал божественной, вечной гармонии. Вообще, весь вкладыш из деревни Корча издалека напоминает даосский символ «инь/ян». Визуальное сходство вполне может быть так же и семантическим, на архетипическом, конечно, уровне. Здесь вполне вероятно заключена идея, созвучная известному даосскому положению о том, что вещи и явления, доходя до крайности, переходят в свои противоположности. Жизнь переходит в смерть, день – в ночь, а птица словно стоит на гране, на «пределе», пользуясь даосской терминологией, между мирами и стихиями. Так или иначе, в фигуре птицы здесь сконцентрирована мощная энергия, которая, по-видимому, должна была передавать воину.
Тему кругового движения встречаем мы и в композиции рукояти ножа из деревни Кылы, где радиально, от общего центра, расходятся четыре объёмно исполненные птичьи головы. Как отмечали В.Н.Топоров и М.Б.Мейлах, «круг чаще всего выражает идею единства, бесконечности и законченности, высшего совершенства, круг как фигура, образуемая правильной кривой линией без начала и конца, ориентирована в любой своей тоже на ней невидимый центр»[35]. В данном случае в качестве этого центра выступает именно фигура птицы. Такое исполнение вкладыша ножа гармонирует с самим изделием удобной в ближнем бою обтекаемой формы. Рукоять ножа лишена декора, за исключением ритмичного шнурового орнамента, идущего вдоль нижнего края рукояти и словно направляющего удар воина. Особую напряжённость и динамику вносит изображённая в месте перехода к клинку схематичная голова хищной птицы с острым изогнутым клювом, линия которого будто продолжена боевой поверхностью ножа. Подобно хищной птице, клинок будет беспощадно разрывать плоть врага, подобно птице-демиургу, воин будет творить историю, покоряя всё новые земли, овладевая всё большими просторами и стихиями. Поистине, мощная метафора выражена здесь татарским мастером. Хотя всей глубины её нам всё равно не постигнуть!
Тема движения, устремлённости вперёд явно является доминирующей в образах птиц, оформляющих трёхдырчатый псалий из могильника Гришкин лог 1 (курган 13, могила 8), найденная М.П.Грязновым в 1958 году. Относится она к подгорновскому этапу, что наглядно подтверждается жёстким геометризмом исполнения и внутренней сдержанностью образа. Пластина псалий на первый взгляд вообще выглядит исключительно утилитарным, грубым предметом для прикрепления поводий, а из-за того, что этой вещью в своё время активно пользовались, она практически утратила первоначальную форму, изображения сильно протерлись от постоянного трения. С одной стороны – этот факт восхищает и привлекает каждого истинного любителя старины, позволяя как бы прикоснуться к жизни тех далёких времён, с другой стороны – лишает возможности в полной мере оценить художественные особенности данного образа. Тем не менее, отсутствие детализации, схематизм, чёткость, собранность силуэта – всё это свидетельствует о высоком мастерстве, о виртуозности в том смысле, в котором воспринимали такое качество тагарцы. Художественное решение подчёркивает функциональное назначение вещи и в лаконичной форме воплощает образ надёжного крылатого помощника. И это – главное! От того какая скорость будет у коня и как всадник с помощью поводий сможет управлять животным, во многом зависела жизнь самого наездника и благополучие всего тагарского социума в целом. Вот почему такая, на избалованный взгляд современного зрителя, неприглядная деталь – псалий, столь важна, вот почему с трепетом, преклонением без лишних штрихов, с такой суровой сдержанностью исполнил тагарский мастер на концах пластины псалия головы хищных птиц с загнутыми кончиками чуть приоткрытого клюва. Согласно представлениям многих древних народов, именно в голове сконцентрирована жизненная энергия. Так, птицы должны были помогать всаднику управлять конём, направлять его жесты, делать их быстрыми и ловкими. А это так необходимо в охоте и в бою!
Ряд замечательных тагарских композиций, в основе которых
S-образная «линия красоты» продолжает бляха в виде головы птицы из села Анаш. Это изделие, длиной 2,3 см, без преувеличения монументально. Бляха служила для продевания ремней, скорее, всего поводий, потому и образ птицы должен был воплощать силу, цепкость, устойчивость. Недаром у птицы гипертрофированный мощный клюв. Его острый конец так круто загнут, что создаётся впечатление, будто именно он (а не специальная петля на оборотной стороне) и должен был удерживать ремень. Глаз птицы – крупное сквозное отверстие, оконтуренное валиком – кажется расширился от колоссального напряжённого усилия. Гармонию S-образной структуры ещё более подчёркивают две прорезные линии, вторящие силуэтной линии клюва.
Кроме ножей, кинжалов и конского снаряжения важной частью вооружения тагарца был чекан. Это поистине грозное оружие ближнего боя. По данным археологии, многие воины эпохи бронзы пали именно от удара чекана по голове. Он представляет собою длинный топорик с втулкой для насадки на древко, на обухе которого находился круглый или многогранный боёк. Таким образом, обе стороны чекана суть активные боевые поверхности: одной можно резать и рубить, другой – пробивать и закалывать. Владение таким оружием требует огромного мастерства – воин должен обладать не только отличной физической силой, но так же ловкостью, сообразительностью, быстрой реакцией на сменяющие друг друга боевые ситуации. Художественное оформление всех чеканов поражает своей суровой красотой. Здесь не просто нет ничего лишнего, отвлекающего от функционального назначения, от самого вида этого оружия веет холодом смертельной опасности. Сама по себе форма чекана – это уже полноценное произведение, проникнутое поэтикой бескомпромиссных битв. Но просто форма, какой бы завершенной она ни была, всегда в первобытном мире одухотворяется неким символическим изображением: будь то орнамент или образ животного. Под втулкой чекана из могильника 1 у озера Кызыл-Куль выполнено объёмное изображение головы хищной птицы. В композиционном отношении оно уравновешивает сквозное отверстие, на противоположной стороне служащее переходом от топорика к втулке, в семантическом – служит надежным талисманом. Изогнутый клюв птицы, образующий кольцо, словно изо всех сил цепляется за стержень бойка и помогает воину держать удар. В искусно исполненном углублённом зрачке птицы точно сконцентрирована её магическая сила! Птица под втулкой чекана из кургана 1 близ села Новоселово тоже пристально смотрит на противника своим углублённым округлым глазом. Клюв птицы напрямую примыкает к бойку и вот-вот готов нанести последний смертельный удар. Голова птицы сделана объёмно, но слегка уплощенной. Это не выделяет её из общего силуэта оружия, делает её неотъемлемой частью боевой поверхности четырёхгранного бойка.
Интересен чекан из раскопок С.А.Теплоухова в 1926 г. Этот чекан, найденный в одном из могильников у Подгорного озера (курган 3, могила 21), отличается своей массивностью. Он принадлежал, по-видимому, очень опытному бойцу. Поражает своим совершенством широкая тяжёлая поверхность шестигранного бойка с длинным четырёхгранным остриём внизу. С помощью такого чекана наносились точные тяжёлые удары на поражение. Между втулкой и бойком, по диагонали, помещена объёмная голова птицы. Её глаз находится ровно на пересечении линии острия бойка и горизонтали втулки. Миниатюрное по размеру изображение аккуратно детализировано продольной прорезью на слегка изогнутом клюве, находящемся под углом 45о к боевой поверхности и потому привносящем долю динамики в холодную статику общего решения чекана. Голова птицы точно подпирает боёк, усиливая ощущение мощи и колоссальной прочности этого смертельного оружия.
Приблизительно на рубеже VI и V веков до н.э. в тагарском искусстве появляется новый тип боевых ножей. Удивительной лёгкостью, остротой и изяществом очертаний отличаются ножи с ажурной рукоятью. Один из самых ранних ножей подобного типа среди известных на сегодняшний день – это нож из коллекции И.А.Лопатина. Голова птицы помещена здесь не как на ранее рассмотренных образцах, т.е. не со стороны лезвия, а со стороны обуха. Голова птицы находится на конце расширяющейся кверху рукояти ножа, а её клюв длинный и тонкий плавно огибает верх рукояти. Здесь птица не направляет удар, не устремляется на противника, а выступает в роли хранителя жизни воина. Сжимая рукоять своего оружия, боец как бы заручается её помощью. Такая перемена, когда от птицы уже «не требуется» усиливать и направлять удар, т.к. её клюв теперь не переходит в линию лезвия, возможно, связана с возросшей самоуверенностью воинов, с совершенствованием их боевого мастерства. Тагарский воин сам, без вмешательства сверхъестественных сил (духов птиц), может выстоять бой. Птица же, скорее всего, должна была теперь просто беречь его боевой дух, силу, а в случае неудачи – позаботиться о его душе. Поэтому-то пернатые и занимают в ножах с «ажурным» оформлением столь скромное, по сравнению с их старшими «сородичами», место на рукояти. В рукояти ножа из коллекции И.А.Лопатина под головой птицы с округлым глазом в виде отверстия сделан крупный треугольный вырез, внешне облегчающий форму ножа. Однако, пустая большая дыра словно просит, чтобы её заполнили чем-нибудь. Так и поступают мастера последующего времени, создавшие прекрасные узорчатые ажурные рукояти. На рукояти ножа длиной 25,5 см из коллекции А.В.Андрианова появляются ромбовидные перемычки. Они облегчают как вес изделия, так и его образ. Изогнутый клюв птицы соответствует полукруглому завершению рукояти. Кроме того, отверстия в изделии как будто наполняют, пропитывают его воздухом-стихией, где так удобно чувствует себя птица. Не исключено, что подобные поиски применялись и в ритуальных целях. Квадраты и ромбы являются важными составляющими орнаментов у многих древних и традиционных народов. И это ясно, потому что квадрат есть не просто геометрическая фигура, но и важный мифопоэтический символ. Как пишет В.П.Топоров, «четырёхугольная (обычно именно квадратная) схема совмещает в себе классификационную систему двоичных противопоставлений, описывающих мир (верх-низ, правый – левый и т.п.), или основных элементов мира (ср. четырёхчленные системы типа «огонь-вода-земля-воздух») с образом идеально устойчивой структуры, статической целостности, интегрирующей в себе основные параметры космоса»[36]. В религиозно-ритуальном аспекте голова птицы, помещённая над ажурным орнаментом из ромбов, может трактоваться как существо, обрамляющее вселенную, управляющее мировыми стихиями. Не больше, не меньше – именно в таких могущественных птицах видели тагарские бойцы своих верных «соратников»!
Нож из деревни Мелихово (коллекция Е.К.Тевяшова) аналогичен ножу из коллекции А.В.Адрианова. Правда, орнамент, составленный из ромбов, здесь более ритмичен, перемычки тоньше, голова птицы поставлена выше, а её глаз представляет собою сквозное отверстие. Так что, даже когда мастера придерживаются одинаковой композиционной схемы, они создают всё равно неповторимые произведения, наделённые своеобразным характером. Хуже сохранился нож из такого же типа из села Карлово (коллекция И.А.Лопатина). Он очень выразителен, а по сравнению с тремя выше рассмотренными – более массивный. У него широкая, но не столь длинная боевая поверхность. При том орнамент прорезан так, что переход от рукояти к клинку практически незаметен. Голова птицы практически незаметна и воспринимается всего лишь как продолжение ромбовидного орнамента на конце рукояти. Тем не менее, нож производит яркое впечатление.
Рукоять ножа из могильника близ Новоселово (ограда 6, могила 1) так же завершается головой хищной птицы с круто изогнутым, почти круглым, клювом. Глаз, переданный в виде сквозного отверстия, вплетается гармонично в контекст орнамента. Сам же ажурный орнамент построен здесь весьма необычно. Перемычка, переходящая в подтреугольную челюсть птицы, выглядит точно широко открытый клюв. С композиционной точки зрения интересно ажурное оформление ножа их курганов на реке Июс, из коллекции В.В.Радлова. Прорезанные отверстия равномерно уменьшаются по мере приближения их к клинку. Это движение словно передаёт направление силы удара от руки воина до самого острия! А завершает рукоять, конечно же, голова птицы.
На некоторых изделиях рукоять, завершающаяся птичьей головой, трактована совершенно по-другому, чем на выше рассмотренных. Как уже отмечалось, у птиц в тагарских произведениях всегда гипертрофирован клюв или глаз. И это не простая стилизация и вовсе не условность. Древний мастер стремился выразить саму душу изображаемого животного. Ему нужно было при помощи средств художественной выразительности подчеркнуть самое главное. Первобытное искусство неотделимо от быта, от ритуала и пронизано мифопоэтическими представлениями. В образах нет ничего незначительного, сделанного только «для красоты». Всё функционально. Всё значимо и семантически, и визуально. Самое важное в птичьей голове – это клюв и глаза. Своими зоркими глазами она выслеживает добычу, клювом поражает её. В глазах хищной птицы кроется её сила, магическая мудрость, бесстрашие и решительность. В клюве – быстрота, стремительность, жесткость, беспощадность. Все эти качества важны для воина. Потому-то, наверное, изображение двух птичьих голов на рукояти ножа из деревни Ключи (коллекция Е.К.Тевяшова) состоят фактически только из одного общего крупного глаза с объёмным зрачком в центре и двух закруглённых массивных клювов. Этого достаточно – перед нами яркий целостный образ. Здесь рукоять ножа не длинная, она незаметно переходит в клинок. Под головами птиц (точнее – под их клювами!) сердцевидный вырез, сужающийся книзу, традиционно по траектории удара.
По-своему трактован такой мотив мастером ножа из коллекции А.А.Бобринского. В центре рукояти, наверху, – большое круглое отверстие, от которого в стороны расходится два треугольника. Такая схема, кажется, воспроизводит изображения глаза с двумя клювами. Но здесь это именно схема, это действительно знак, а не образ, хотя знак информативный, выразительный. Образы же птиц кроятся под ним. Две головы птицы, обращённые друг на друга, словно подпирают собою два эти клюва-треугольника и несут огромный (по отношению к небольшим головам птиц) глаз-круг.
Уникален по своему художественному решению кинжал из Шушенского района (коллекция И.А.Лопатина). Та схема, которая увенчивала рукоять перенесена здесь на перекрестье, то есть служит упором для рукояти и местом, где начинается боевая поверхность клинка. Несмотря на предельный лаконизм средств художественной выразительности, мы без труда узнаём изображение голов птиц в этих двух изогнутых во внутрь клювах с одним, общим, глазом. Резко выступающие острые клювы вносят в силуэтную линию прерывистый резкий ритм. Аналога такому в тагарском искусстве больше нет, так как предпочтение отводилось всегда обтекаемым плавным формам. Видимо, мастер дал здесь волю своему воображению. Решил поэкспериментировать с традиционными формами. Итогом этого эксперимента стало своеобразное вешение всё тех же композиционных и семантических задач. Оконтуренное желобком сквозное отверстие круглого глаза служит здесь своеобразным композиционным центром. Это тоже новшество для тагарского искусства, в котором проявились индивидуальные черты таланта исполнившего кинжал мастера. Центральное сквозное отверстие акцентирует внимание на симметричности, придаёт облику изделия в целом ощущение спокойной устойчивости, уравновешенности. Рукоятка кинжала декорирована шестью продольными желобками, придающими композиции сдержанный чёткий ритм и ту динамику, что, как обычно, призвана точно направить и многократно усилить удар воина.
Усложнение мотива двух соединённых птичьих голов видим мы на целой серии тагарских ножей. Ножи из села Старая Деревня, из коллекции И.П.Товостина, из деревни Копьёва, из деревни Лепёшка, из могильника близ села Новосёлова – эти все изделия, стоит думать, сделаны одним и тем же мастером. По манере исполнения и по форме они очень похожи между собой. На рукояти – две птичьи головы, соединённые затылками. Здесь у каждой птицы свой глаз! Клювы птиц, обращённые в противоположные стороны, изогнуты так, что образуют круглые сквозные отверстия. Вместе с двумя глазами, всего таких отверстий на рукояти четыре. Это ещё раз подтверждает мысль о сакральном значении числа четыре в тагарской культуре, то есть подкрепляет те же предположения, что приводились ранее – в связи с рассмотрением прекрасного раннетагарского ножа из села Шошино (коллекция И.А. Лопатина) и ножа из деревни Кылы (коллекция А.В.Адрианова). Так, четыре круглых сквозных отверстия в художественном отношении облегчают восприятие плавных, несколько монотонных, силуэтов этих изделий. Они делают край рукояти ажурной и широкой. Это не только красиво, но и очень удобно: когда держишь такой нож, то кулак как бы опирается на расширенный край рукояти. А это чрезвычайно необходимо и при активной обороне, чтобы противник не сумел выбить оружие из рук, и при быстрой атаке, чтобы нож из напряжённых рук воина просто не выскользнул. Поэтому-то, наверное, такая форма исполнения рукояти часто встречается. Свидетельство тому, что она чуть ли не стала каноничной, являются три ножа (из могильника Барсучиха VI, из окрестностей Минусинска, из деревни Старцево), где четыре отверстия трактованы предельно стилизовано. Это ножи более позднего, так называемого сарагашенского, этапа тагарской культуры. Рельефные двусторонние изображения на рукояти лишь отдалённо напоминают головы птиц с огромными круглыми глазами и закруглёнными клювами. Этот орнаментально-изобразительный мотив встречается и на таких рукоятях ножей, где доминирующее значение в композиционной структуре отводится ажурному декору, представляющему собой сетку из сквозных ромбов. Таковы ножи из деревни Черёмушка; из Нижнего Абакана и из села Калмыкова. Ромбовидные перемычки выглядят очень декоративно, привносят в оформление изделия динамичный ритм и облегчают его массу. Такая лёгкая рукоять с расширенным завершением крепко сидит в кулаке! А схематичные изображения птиц, конечно же, даруют удачу и силу, охраняют жизнь воина.
Достаточно подробно рассмотрев образы птиц в тагарском искусстве на предметах вооружения и на нескольких предметах конского снаряжения, стоит уделить так же долю внимания орудиям труда. Особое место занимает в ремесле тагарцев топор со втулкой, перпендикулярной к лезвию. Это – кельт, орудие деревообработки, свойственное для эпохи бронзы. Как правило, тагарские мастера не украшали зооморфными мотивами кельты, ограничиваясь орнаментом. Но есть небольшая группа топоров, имеющих ушки, оформленные в виде голов птиц. В виде двух небольших стилизованных фигурок птичьих голов оформлены ушки на втулке кельта из деревни Коркино. Глаз птицы углублён и оконтурен валиком. Так, глаз кажется, на первый взгляд, только декоративной точкой в основании ушка. Клюв птицы изогнут так, что незаметно его объём переходит в объём втулки. Изящные птичьи головы придают некоторую лёгкость этому массивному и грубому утилитарному изделию. Кельты из деревни Кардосаны и из села Серебряково явно принадлежат руке одного и того же мастера. На первом кельте глаз птицы показан выступающим округлым, а зрачок передан сквозным отверстием, на втором – весь глаз представлен в виде сквозного круглого отверстия. Это сближает оформление серебряковского кельта с декорировкой рукоятий боевых ножей. Собственно, чёткое разделение труда в тагарском обществе не было. Ремесленник, делающий орудия труда, умел изготовлять и оружие, при этом мог быть одновременно отличным воином, лекарем и скотоводом! Вот почему даже орудие деревообработки проникнуто воинственной суровостью. Может быть, кельт иногда даже применялся в ближнем или дистанционном бою, если тагарец метал его в появившегося вдалеке противника.
Особый боевой ритм придаёт кардосаныкскому и серебряковскому кельтам орнамент на втулке, представляющий собою два соприкасающихся сегмента, заполненных двумя рядами рельефных вертикальных полос. Кельт из коллекции И.А.Лопатина (случайная находка из Красноярского округа) не столь разнообразно декорирован, зато весьма необычен по форме. Он удлинён и менее массивен. Вероятно, предназначался он не столько для срубания и стёсывания, сколько для отрубания сучков, для шлифовки стволов деревьев и т. д. Ушки, как впрочем, и на предыдущих кельтах, оформлены в виде объёмных птичьих голов с обращённым вверх длинным клювом и округлым глазом, оконтуренным валиком. Иную, по сравнению с вышерассмотренными, форму орудия деревообработки представляют два кельта – из деревни Саянская и из окрестностей Красноярска. Здесь ушки гипертрофированы. Для чего? Трудно ответить, не зная всех особенностей тагарской обработки дерева. Возможно, они служили дополнительной опорой для рубящей поверхности топора, конструктивно укрепляя её; возможно – мастера держались за них, а не за основную рукоять, когда производили аккуратное стёсывание и подтачивание. Так или иначе, вместе с возросшей ролью этой конструктивной детали, усилилось и значение образа птицы. Головы птиц здесь не просто композиционный элемент, но та часть, что формирует композицию в целом. Вероятно, обработка древесины – ремесло не менее сакральное, чем искусство бойца. Повсеместно встречается образ мирового древа, связанный с космологическими представлениями, в которых вселенная делится на три уровня, а точнее – на три мира, соотносимых в свою очередь, с тремя параметрами пространства (верх/середина/ низ) и времени (предки/ныне живущие/ потомки). На верху кроны дерева обитают птицы. Это их сфера, они там хозяева. Человек, срубая дерево, опрокидывая его из вертикального в горизонтальное положение, лишает птиц такой власти, то есть становится своего рода узурпатором. А за такое могут и отомстить, и беды наслать. Следовательно, стоит думать, человек должен был как-то искупить свою вину перед птицами, «договориться» с ними, а не вступать в противостояние. Изображая головы птиц в качестве ушек у кельтов, тагарец как бы возвращал пернатым то, что ему пришлось присвоить.
Кроме того, как в бою, так и в ремесле, птица вполне могла выступать в качестве активного помощника. Если само дерево – суть ни что иное, как основа космоса, столп миропорядка, то, что, изготовляя из древесины какую-либо вещь, человек имел дело не просто с грубым материалом, но с одушевлённой частицей вселенной. Таким образом, мастер становился своеобразным демиургом. А, как известно, ещё в неолите роль демиурга в космогонии играли птицы. Именно они, очевидно, занимая важное место в композициях орудий деревообработки, призваны были обучить, направить руку тагарца, приобщить его к великому, таинственному, сокровенному – к акту творения!
Образы птиц, без преувеличения, значили для тагарцев многое. Поэтому и трактовать их однозначно не представляется возможности. Попытки искать аналогии им слабы, обречены на провал. Даже в других культурах «скифского» мира отношение к птицам было иным и выражалось в других формах. В V – VI веках до н.э. некоторые тагарские мастера всё более склонны разнообразить образы птиц, как-то по-новому их осмыслить. Они условно говоря, не впали в некий «маньеризм», но, чувствуется, им стало чего-то не хватать. Отдельным мастерам, вероятно занимавшим не последнее место в тагарском обществе, стало важно не просто выделить в изображении характерное, но наделить его такими чертами, которые могли бы придать ему больше силы, могущества и выразительности. Наверное, итогом подобных побуждений, а вовсе не результатом «влияний», «веяний», «заимствований», явились те удивительные орнитоморфные образы в тагарском искусстве, что принято называть «грифонами». Извечная привычка учёных почти везде применять греческие термины подчас приводит к невероятной путанице! Так происходит в данной ситуации с «грифонами». Как называли миксантропических существ с птичьими клювами, ушами тигров и с подбородком, напоминающим верблюжий, на прототахарском или на протосамодийском языке? К сожалению, некому это озвучить, тагарцы оставили нам «молчаливые» артефакты. В науке принято довольствоваться малоубедительным и неуклюжим (для степных культур) эллинским словом – грифон.
Собственно грифоны (или грифы) – были сторожевыми собаками бога Зевса. Изображения их в пластике или на чёрнофигурных кратерах больше напоминаю египетских сфинксов, чем птиц: львиное туловище с мускулистыми, когтистыми лапами, хвост, сидячая поза, мощные крылья и только голова не человека, а птицы. Показательно ещё и то, что изображения грифов распространены не в классический, а в эллинистический период, когда мифологические, религиозные представления греков перемешивались с переднеазиатскими и египетскими. Тагарские грифоны ничего общего (даже чисто визуально!) не имеют с греческими. Это не птицеголовые львы, а просто птицы с львиными ушами. В таком, кажется, незначительном замечании кроется суть их различия. Зачем льву орлиная голова? А орлу – львиное туловище? Нет смысла птице переносить в полёте тяжёлое тело млекопитающего, а последнему не очень практично обладать птичьей головой! Зато вид у такого существа – не просто ужасающий, но, вообще, -невиданно страшный! Зевс и без стражей силён. Сторожа ему нужны скорее не как реальная сила, защита, но как ещё одно напоминание о его беспредельной неземной власти и могуществе. Тагарцам были важны действительные заступники и помощники. Им не требовалось создавать устрашающие образы. Настоящий боевой соратник должен был быть надёлён предельной бдительностью, чуткостью, не только силой. У птицы, какова она в природе, мощный клюв, зоркий глаз. Но ушей-то у них совсем не видно! А слух так важен в бою. По-видимому, тагарские воины, понимая это, желая всё-таки изобразить у птиц ухо, и прибегли к наиболее удобному решению, «прикрепив» выразительные, всегда напряжённые уши кошачьего хищника к птичьей голове. Так и появились у тагарцев «грифоны».
Композиции с этими удивительными существами сильно отличаются от тех, в которых присутствуют птицы. Несмотря на свою фантастичность, они выглядят менее сурово, чем орлы или ястребы с клювами, угрожающе сомкнутыми в завиток или непосредственно переходящими в остриё ножа. Головы орнитоморфных существ с львиными ушами решены не теми средствами художественной выразительности, что применялись при исполнении птичьих голов, но и они соответствуют воинственному сильному духу тагарского искусства. На рукояти железного кинжала из села Кордачина образы «грифоньих» голов проникнуты ощущением такого сосредоточенного покоя, какой испытывает закалённый в суровых боях воин перед очередной бескомпромиссной схваткой с достойным противником. Навершие рукояти представляет собою две объёмные головы на одной шее в виде лежащего полумесяца. Соприкасающиеся клювами головы симметричны по отношению друг к другу так, что создаётся зрительное ощущение, будто из точки пересечения клювов исходит траектория удара – ось симметрии, переходящая в ребро четырёхгранного клинка. Словно эти два существа выпускают из своих мощных клювов энергию, помогающую сделать удар в десятки раз точнее и сильнее! Действительно, напряжение боевой мощи кажется столь велико, что оно даже вибрирует в трёх S-образных завитках, вертикально располагающихся на рукояти по оси симметрии. Эти орнаментальные изгибы плавно переходят и продолжают своё движение сначала в спирально закрученных глазах, а затем и в загибающихся клювах «грифоньих» голов на перекрестии кинжала. Здесь они соприкасаются уже не клювами, а затылками. Крутой изгиб клювов, упирающихся боевую поверхность оружия, образует отверстия, композиционно перекликающиеся со сквозным отверстием в навершии рукояти и облегчающие с ним вместе всю композицию кинжала в целом. Само же навершие рукояти по своему абрису напоминает бараньи рога. Таким образом, в художественном решении навершия рукояти мы встречаем интересное явление – своего рода контаминацию, когда два образа «грифоньих» голов образуют собой в силуэтном отношении знак – индекс (используя термин Ч.Пирса) барана. Как ни странно, баран, так же как птица ассоциировался именно с небесным пространством. Значит, эта форма вполне симптоматична. Особенно, если учесть любопытное замечание Ю.Н.Есина, исследовавшего символическое значение дуги бараньих рогов в окуневской знаковой системе на примере антропоморфных личин: «Дуга является символом неба, но передаёт нижнюю границу верхнего мира и, возможно, происходит от его образа в виде нависающей дождевой тучи»[37]. Из этого всего можно сделать вывод, что воин, обладатель кордачинского кинжала, стремился заручиться поддержкой не птицы, ни даже грифоноподобного существа, ни каких-либо других магических сил, но самого неба. Возможно, именно к тагарской культуре и верованиям восходят корни того удивительного религиозного явления, что принято именовать «тенгриизмом». Поклонение Великому Синему Небу, сложившееся на основе анимистического представления о небесном властителе, о некоем персонифицированном проявлении мощи повелителя и воина, которое практиковал сам Чингисхан, явно вышло из суровой воинской среды. В языке хунну есть слово ченли, переводящееся как «небо». Как называли «небо» тагарцы нам неизвестно. Но, стоит догадываться, что они с почтением и трепетом относились к этой загадочной великой стихии.
Очень похож по исполнению на кордачинский кинжал из деревни Таскино. Это – холодное оружие с двулезвийным массивным четырехгранным клинком с коротким остриём и с широким напускным перекрестием, обеспечивавшим отличную защиту руки от удара противника и опору напряжённому кулаку бойца. Такая форма сближает все подобные кинжалы с оружием скифов других областей, в частности Казахстана. Так описывает А.И.Мелюкова оружие скифов: «Кинжал имеет широкое овальное навершие, рукоять с бортиками по краям и довольно массивный клинок с параллельными лезвиями, сходящимися к острию в последней трети длины»[38]. Однако, скифский мир за пределами Хакаско-Минусинской Котловины предпочитал пользоваться короткими мечами обтекаемой формы – акинаками. Они тоже были удобными в ближнем бою. Но если кинжалы удачнее подходили для ведения пешего боя, то скифские акинаки были незаменимы в конных схватках, когда воины, не слезая с коня, вплотную друг к другу вели ожесточённый бой. Разница боевых техник обусловила те различия, что отделяют форму минусинских кинжалов от акинаков, а также породило своеобразные художественные решения этих видов вооружения. Композицию и внутреннюю формальную структуру тагарских кинжалов организует ось симметрии, совпадающая с ребром четырёхгранного клинка, и, словно стрела, выпущенная из точки пересечения голов «грифонов», напоминающих лук, придаёт удару скорость и стремительность.
Своеобразную трактовку образы грифонов получают в предметах конского снаряжения. Здесь это чудесное воинственное существо также выступает в качестве соратника, попутчика и надёжного помощника. Они охраняют, держат, направляют, оберегают и, конечно же, наделяют и коня, и человека огромной силой и ловкостью – то есть делают всё то, что необходимо воину для победы, а, в конечном счете, всем тагарцам для самосохранения и развития своей культуры. Изящно в художественном отношении и практично в утилитарном исполнены объёмные головы грифонов на псалии из коллекции В.В.Радлова, найденные к югу от Минусинска. Две вытянутые головы грифонов с длинными, изогнутыми книзу клювами, с округлыми глазами и рельефно подчёркнутыми ушами являются концами этого двудырчатого псалия. Элементы изображения мастер уточнил, проработав важные детали. На клюве углублённым продольным желобком показан рот. Создаётся впечатление, что клюв приоткрыт. Эффектно исполненный объёмный зрачок придаёт всему образу грозность, магическую выразительность, неколебимый покой. Рельефно проработанная ушная раковина вносит в композицию ритмический акцент. Образ «грифона» полон мощи и спокойствия. Понятно, обладая таким «характером», он отлично справлялся с непростой задачей удерживать поводья, помогая наезднику направлять бег коня.
Яркое, более того, устрашающее впечатление производит небольшой по размерам (4,5х4,2 см), но монументальный по форме конский налобник из села Усть Сыды. Наблюдательные тагарцы наверняка не раз видели сцены нападения хищных птиц на жертвы. Без сомнения, их не могла не восхищать суровая сосредоточенность хищника, рассчитывающего траекторию своей стремительной атаки. На конском налобнике представлен «грифон» в момент полной боевой готовности. Ещё мгновение – и его острый клюв будет терзать беззащитную плоть. Этот образ должен был приводить в трепет любого, даже самого сильного и самоуверенного противника. Объёмная голова хищника с круто возвышающим лбом, выпуклым выразительным зрачком, оконтуренным объёмным валиком, с маленькими, но настороженными, рельефно проработанными ушами как бы вырастает из плоского щитка налобника, фигурные волютоподобные края которого образно воплощают необычайно гибкое, пластичное, потому и неопределённое по своей форме, тело фантастической птицы. Клюв её загнут книзу и напряжён, а в массивном рельефно выделенном надклювье ощущается упрямая готовность к жестокой схватке, вдохновенная решительность бойца!
Оригинально решены образы орлиных грифонов на псалии из кургана на реке Июс. Псалий представляет собой ажурную двухлопастную бляху с полой втулкой посередине. Первое, что хочется отметить в связи с формой произведения, это её чисто визуальное сходство с одним из вариантов изображения Великого символа буддизма, с Ваджрой. Перевязанный посередине сноп молний, пронизанный небесной энергией – две симметричные лопасти, плоскости которых декорированы ажурными завитками. На санскрите слово Vajra значит «алмаз» – символ чистоты, прочности, драгоценности и неучтожимости. Как ни странно, однако главным качеством псалия должна быть именно прочность. В конском снаряжении это поистине драгоценная деталь! К ней крепятся поводья, от неё зависит то, как сумеет наездник направить бег коня. Конечно, проводить прямую параллель июского псалия V века до н.э. с буддистским символом невозможно. Зато, очевидно, косвенное сопоставление весьма уместно. Сверкающие, извивающиеся стремительные небесные стрелы – молнии не могли не волновать душу и воображение тагарских воинов и художников. Эта мощная, бушующая, загадочная небесная стихия и вдохновила мастера июского псалия на создание прекрасного ажурного узора на лопастях. Один завиток незаметно переходит в другой, из одной линии возникает другая и закручивается в волнообразном движении точно так же, как шаровая молния в грозном чернеющем небе. И вдруг из всего этого хоровода изгибающихся линий появляется голова грифона. Клюв его вторит большому волютообразному завитку, как бы сливаясь с образно воссозданной небесной стихией. Левая лопасть словно зеркально отражает правую. Это вносит в общий образ предмета экспрессивную динамику, потому что простая симметрия делала бы композицию статичной, замкнутой в себе. Здесь ритм будто вырывается наружу. Головы грифонов в художественном отношении сдерживают эту напористую динамику, наделяют композицию сосредоточенностью и, кажется, именно они собственно и задают темп, направляют движение стихий. Вместе с тем, несомненно, они помогают управлять конём и крепко держат поводья!
Рассказ об образах птиц в тагарском изобразительном искусстве будет неполным, если не упомянуть о тагарских тамгах. Они впервые привлекли внимание учёных в 1887 году, когда на территории современного Шарыповского района проводила свои исследования финская экспедиция во главе с И.Р.Аспелиным. Опубликованы изображения с тагарских плит были только в 1931 году, в монографии Я.Аппельгрен-Кивало. Некоторые курганы открытые финскими учёными, к сожалению, сейчас не сохранились. Так, не представляется возможным увидеть плиты из курганов, располагавшихся по обе стороны дороги, ведущей в деревню Дума (Большое Озеро). На их месте распахано поле. Из книги Аппельгрен-Кивало только можно узнать об интересных изображениях птицеподобных фигур на широкой северной стороне камня из этого кургана. Птицы здесь напоминают журавлей, взлетевших в небо. Их длинные шеи гордо вытянуты, крылья напряжены, клюв загнут влево. Вся эта их фигура показана плавными линиями, словно передающими всю восхитительную красоту их неторопливого размеренного полёта. Перед нами действительно поэтичный образ, в полном смысле этого слова! Тонкая линия, с помощью которой мастер запечатлел формы птицы, сама собой даёт ощутить всю лёгкость, вдохновенную грациозность того, что недоступно человеку – парения в воздухе. Особое изящество придаёт фигурам птиц ромбовидный или треугольный «хвост», как бы указывающий на оперение. Изображения птиц пронизаны внутренней динамикой. Они ритмичны, а значит, бесспорно, прекрасны. Для какой бы цели они ни предназначались, какую бы идею не олицетворяли, в них априорно заложено глубокое эстетическое начало. Ведь «вся классическая эстетика считала наличие ритма одним из важнейших признаков красоты»[39]. Неизвестно, было ли у тагарцев слово, которое хотя бы приблизительно переводилось – «красота». Так или иначе, тагарские творцы, как впрочем, все первобытные мастера, чувствовали, что это такое. Они умели замечать прекрасное во всём и передавали своё восхищение от окружающего их мира в каждом изделии. Древние не просто были близки природе, они сливались с ней в цельном потоке бытия, видели в любом явлении свои собственные переживания, а во всех живых существах – частичку собственной души. Всё едино вокруг. Потому-то одно и тоже изображение может толковаться по-разному, и обе интерпретации окажутся верными. Что значили для тагарцев эти хрупкие рисованные фигурки птиц? Убедительно мнение Вл.А.Семёнова: «Как переносчики или воплощения душ умерших птицы связаны с нижним миром, а так же могут быть олицетворением солнечной энергии или ветра или выполнять иные коммуникативные акты»[40].
Стоит отметить, что по стилистическим признакам к тагарским тамгам из Шарыповского района очень близки четыре бронзовые подвески, обнаруженные А.М.Мандельштамом в Туве на могильнике Часкал (Центральная поляна, курган 3), относящемся к гунно-сарматскому времени.
Сдержанная ритмичность, внутреннее сосредоточенность, особая суровая поэтика, плавность линий и, как следствие, изящество силуэтов – всё это присутствует в образах птиц на часкальских бронзовых подвесках и на тагарских шарыповских плитах, на тагарских ножах, кинжалах и псалиях. Образ пернатого быстрокрылого защитника и помощника воина всегда прекрасен, полон жизненной энергии, благородства и решительности. Тагарская культура породила удивительное по своей лаконичной выразительности изобразительное искусство, исполненное великим преклонением перед могущественными силами природы, проникнутое грозной поэтикой битв. Недаром, по мнению Л.Н.Гумилёва, потомками именно карасукцев и тагарцев были те самые хунну, что наводили ужас на всю Великую «Поднебесную империю»[41]!
ГЛАВА III
«Небесные воины» –
семантическая и стилистическая роль птицы
в сценах борьбы животных.
(Скифо-сибирский звериный стиль).
Тагарская культура относится к кругу скифоидных культур. На ней был сделан акцент в предыдущей главе. Сейчас стоит обратиться к скифо-сибирскому звериному стилю в связи с данной темой.
Весьма заметное место в скифо-сибирском зверином стиле занимают композиции, изображающие сцены борьбы. Поэтому, данную главу работы необходимо начать с тех рассуждений, что призваны подвести непосредственно к этой непростой, но весьма интересной и важной теме. Известно, что история человечества – история воин, а самое древнее искусство – искусство ведения боёв. Заслуженной славы во всём мире достигли боевые искусства Китая. Однако, можно предполагать, что некоторые приёмы китайских боевых искусств – не только результат глубоких медитаций и длительных тренировок великих даосских отшельников и почтенных буддийских монахов. Отдельные элементы старинных боевых техник Поднебесной вполне могли иметь древнейшие корни, восходящие к тем средствам ведения боёв, что использовали обитатели Сибири ещё в эпоху бронзы. И это – отнюдь не умозрительный вывод. Известно, что «во времена правления династии Чжоу (с1030 по 480 г.г. до н.э.) доминирующим направлением в Кунг-фу, или дзи-дзи, как тогда его называли, являлась верховая езда и стрельба из лука!»[42]. Боевая техника, сравнимая с Кунг-фу в современном понимании (то есть система приёмов пешего рукопашного боя без оружия), сложилась, судя по китайским историческим источникам, в VI веке до н.э., а в последующие три столетия, то есть в период Чжань-го (Воюющих царств, 480 -221 г.г. до н.э.), сам ход истории предопределил развитие и совершенствование искусства ведения сражений. В те времена был создан знаменитый «Трактат о военном искусстве». Это классическое произведение известного китайского военного стратега Сун Цзы – важный исторический источник, представляющий особенный интерес тем, что автор даёт описание не только того, как готовились к бою и дрались китайские воины разных «удельных» княжеств, но и указывает на запоминающиеся яркие методы ведения боя, применяемые иноземцами, среди которых могли быть и потомки выходцев из Минусинской котловины, из Алтая и с Забайкалья. В конце I тысячелетия до н.э. Китай осаждали гунны, а их предками, по мнению Л.Н.Гумилёва, были создатели карасукской культуры. Однако же, нельзя с абсолютной уверенностью искать прародину знаменитых боевых искусств Китая в Южной Сибири и где-либо ещё, подобно тому, как не следует вообще учёным тратить время на споры о том, кто у кого что и когда заимствовал. Любое великое явление культуры, в частности, фольклора и искусства (от боевого до изобразительного), по природе своей не может не быть синкретичным; такое явление всегда связано не только с историей отдельного народа или ограниченной географическими пределами территории – оно неотделимо от единого потока развития всего человечество и является таким фрагментом, без которого Всемирная история утратила бы смысл.
Действительно, поразительное сходство некоторых пространственно отдалённых друг от друга культур чаще объясняется не заимствованием, а конвергентностью. Конвергенция – возникновение общих свойств и признаков у разных культур независимо друг от друга – имеет несколько основных причин. Как правило, в исторической литературе выделяется лишь три из них:
1.Географическая (Сходство ландшафтных и климатических условий).
2.Политическая (Сходство хозяйственного уклада и, соответственно, экономического развития).
3. Личностная (Единство архетипов как общность структурных элементов так называемого коллективного бессознательного, лежащего в основе всех человеческих идей и поступков – по К.Г.Юнгу).
Но есть ещё и четвертая причина, по сути самая очевидная, но реже всего замечаемая. Это – естественно-природная причина, не исключающая, а, напротив, дополняющая и связывающая воедино все три вышеупомянутые. Сколь далеко ни шёл бы прогресс, какого бы развития ни достигла та или иная цивилизация – тем общим знаменателем, к какому можно привести всех людей, населяющих Землю во все времена, неизменно будет сама природа во всём её бесконечном многообразии. На эту четвёртую в нашем списке причину как бы одним только намёком указывает нам эстетика Аристотеля, учившего, что «искусство есть подражание природе, которая даёт человеку образцы для подражания и тем самым вызывает у него стремление к подражанию»[43]. Поэтому, нетрудно предположить, что и тагарский, и гуннский воины, как знаменитые китайские мастера Кунг-фу вырабатывали методики ведения боя именно на основе наблюдения за характером движений и повадками животных, вдохновляясь мощью и ловкостью тигра, грациозностью журавля и стремительностью орла. Мастера изобразительного искусства черпали своё вдохновение из того же ключа Иппокрены, что и мастера битв – из природы, из животного и растительного мира. Об этом красноречиво свидетельствует эпос тюркских народов, в котором, по меткому наблюдению С.Р.Липец «встречаются мотивы, которые могут быть связаны с традициями звериного стиля. Таковы, например, строки из каракалпакского эпоса, рисующие сцену единоборства богатырей:
Схватился, как лев со львом,
Он боролся, как волк степной с жеребцом,
Как барс лесной с кабаном,
Как орёл с быстроногим козлом»[44].
Всё древнее искусство, в частности, скифо-сибирский звериный стиль, проникнуто великим пафосом неподвластных времени и чьей-либо воле извечных законов природы, одухотворено преклонением перед этими законами, одушевлёнными, материализованными в зримых образах благодаря таланту и фантазии неизвестных мастеров.
Действительно, только те, кто со священным трепетом, с неизменным восторгом перед могуществом и красотой мира внимательно наблюдали за мельчайшими явлениями жизни природы, только те, кто по-настоящему осознавали себя не просто частичкой всего живого, но и тождеством всему живому – только они могли быть создателями столь ритмически выразительных, динамичных, логичных, стилистически целостных композиций и образов скифского сибирского звериного стиля. В этой части работы рассматривается семантических и стилистическая роль птицы в сценах борьбы животных.
Произведения, созданные скифскими мастерами, сразу произвели должное впечатление на учёных, как только были открыты. В случае с образцами первобытного искусства, особенно Сибирского, это большая редкость. Окуневские стелы называли «грубыми истуканами», а тагарские бронзы рассматривали только как артефакты, дающие минимум сведений о быте и военном деле. В связи со скифскими находками исследователи уже отметили не только утилитарную функцию, но и несомненную художественную ценность. Древние кочевники Сибири «сумели» на этот раз «угодить» вкусу придирчивых европейцев! Даже самый искушённый ценитель изящных искусств вряд ли сможет удержаться от захватывающих эмоций, когда перед ним предстаёт такое многообразие орнаментальных мотивов, композиционных решений, богатство использованных материалов, такое виртуозное мастерство и потрясающие воображение фантастические сюжеты.
Кочевой мир середины первого тысячелетия до н.э. выработал особое отношение к образному началу в своих изделиях. По определению Г.Д.Гачева собственно «художественный образ есть всегда комплекс: мысль – предмет – действие»[45]. Знакомясь с любым произведением искусства скифов, мы видим, что пред нами всегда именно действие, выраженное пластически, орнаментально или фигуративно. Этим действием и живёт художественный образ. Но действие здесь больше, чем просто «глагол», переведённый на визуальный язык с вербального, потому что оно включает в себя и мысль, и предмет. Идея и форма реализуются в действии. Особенно, если это действие – борьба. Между мастерством воина и художника в скифском мире стёрты границы.
На одном украшении седельной покрышки из первого Пазырыкского кургана представлена сцена нападения на лося могучего орла. Орёл – птица, щедро дарующая вдохновение и на поле битвы, и в ремесленной мастерской. Бесконечно можно восхищаться пластикой, стремительностью и величием этого обитателя небесных просторов. Знаменитый этнограф Л.Я.Штернберг писал, что «уже одна сила этого могучего пернатого внушает особое к нему отношение. А молниеносный пламенный взгляд орла, могучий стремительный полёт, который производит такое впечатление, точно орёл поднимается к самому солнцу < …> В Ригведе солнце даже называется птицей. Орёл так же – бог войны и победы и, как громовая птица, поражает врагов. Вот почему он фигурирует как символ власти на знаменах и пр.»[46]. Какой смысл вкладывал мастер в это изображение? При всей наблюдательности кочевников и живом их интересе к окружающему миру вряд ли они стали бы просто изображать ту сцену, которую могли видеть в природе. Древние алтайцы в этом сюжете ощущали идею вселенской значимости. Они познавали и понимали действительность не через отвлеченные понятия, а через метафоры, выраженные в осязаемых конкретных образах. Без преувеличения можно утверждать, что все сибирские кочевники были поэтами? Ведь именно поэты умеют всё объяснить и выразить, не прибегая к логическим рассуждениям, к неким силлогизмам, а вооружаясь одним лишь образным мышлением и чувством ритма. Пазырыкский мастер воспевает здесь саму жизнь в её вечном необратимом движении, с её суровыми законами, в основе которых – противостояние добра и зла, небесного и земного. Не жесткость торжества хищника над жертвой приводит в восторг древнего мастера, а великая суть этого действия и захватывающая красота поединка. Степной воин всегда, даже во время сна и приема пищи, находящийся в седле и готовый принять бой, как ни кто другой умел ценить грацию и ловкость, быстроту и силу. То, что составляло смысл его жизни, не могло не вызывать эмоционального отклика. Все дни кочевника проходят в движении, на каждом шагу может подстерегать смертельная опасность. Эти люди существовали в атмосфере постоянного духовного и физического напряжения. Их искусство глубоко символично. Но эти символы не тайнопись, не выражение абстрактных понятий. Они суть живые полнокровные произведения. Художнику-кочевнику не было дела до того, чтобы, как говорится, «поверять алгеброй гармонию». Он был настолько близок природе (дышал с нею в одном ритме!), что гармония мира, вселенной была одновременно и его внутренней гармонией. Поэтому, очень настороженное отношение вызывают рассуждения учёных, стремящиеся свести скифское, в том числе, алтайское искусство к некоей производной переднеазиатской культуры. Вообще, вопрос об отношениях между оседлыми цивилизациями и миром кочевников является одним из наиболее сложных и противоречивых вопросов мировой истории. Здесь трудно остановиться на одном решении раз и навсегда. Стоит всё-таки придерживаться «срединного пути» в этом отношении: не возводить в абсолют влияние цивилизаций Средиземноморского региона, но и не отрицать их резонанса в общечеловеческом историческом процессе. Позиция «мы римляне, они – варвары» пагубно сказалась на судьбе Римской империи. Отношение к миру и культуре кочевников как к вторичным зависящим лишь от веяний оседлых земледельческих цивилизаций не верно. Оно может принести науке не меньше вреда, чем утрированная самоуверенность римлян их имперскому благополучию.
Достаточно ещё раз взглянуть на пазырыкское украшение седла и вспомнить ассирийские рельефы или, например, фантастических существ с ворот Иштар. Вся переднеазиатская классика проникнута пафосом сосредоточенного стояния или сидения. Даже изображения сцен борьбы и охоты строги и статичны. Движение как таковое не передано, дан лишь намёк на него. Но, если в переднеазиатском искусстве движение – статично, то в скифо-сибирском стиле даже статика динамична. Действительно, в искусстве Древнего Востока очень много боевых и охотничьих сцен. Но всегда они, прямо или косвенно, связаны с человеком. Если присмотреться, то тела фантастических существ и животных выполнены с такой проработкой мускулов, точно мастер передаёт анатомические особенности сильного, закалённого в боях, человеческого тела. Их позы, жесты, взгляды тоже напоминают человечьи. В искусстве скифов Алтая человек так слит с природой, что не оставляет в ней особого для себя места. Каждый кочевник настолько сильно отождествляет себя с любым другим живым существом или фантастическим персонажем, что не видит необходимости давать хотя бы намёк на эту глубокую связь. Подобно орлу, скифский воин силён и стремителен. В бескрайних степях нет ему преград, как орлу в небесах. А переднеазиатские государственные образования чётко знали свои границы, всячески укрепляя их. Соответствующим было и мышление, в котором поколениями предков закладывалось почтение к обожествлённой личности правителя, к государственным законам, к родной земле, то есть к той самой территории, освящённой богами и отделённой чёткими границами от враждебного и «недостойного» внешнего варварского мира. Такому сознанию вполне отвечают и статика композиций, и пристальное отношение к телесному началу в образах, и горделивое, подчас подавляющее, спокойствие поз и жестов в искусстве Древнего Востока. Совершенно противоположное мышление, как политическое, так и композиционное, мы встречаем у скифов, в том числе, конечно, у Сибирских. Образ орла из Пазырыкского кургана I проникнут стремительным движением. Крылья широко расставлены, но ни на миг они не вызываю известных ассоциаций с геральдической условностью. Орёл взмахивает ими. Всё его тело напряжённо, ведь жертва в два раза массивнее его, кроме того, она хоть и понимает свою обречённость, но не собирается просто сдаваться. Лось оказывает усиленное сопротивление терзающим когтям орла. Он изогнул и расслабил своё тело (умение полностью расслабиться в бою, как ни странно, не менее важно, чем способность в мгновение сконцентрировать все свои силы!) Задние лапы лось приподнял, насколько хватило сноровки. Пытается отбиться ими, а орёл явно не в восторге от такого приёма. Он гневно оборачивается и словно хочет одним лишь усилием своего взгляда остановить сопротивление. Но лось подогнул переднюю ногу, вот-вот он совершит резкий кувырок и, хотя бы на несколько секунд, скинет с себя беспощадно атакующего противника. Удивительно, однако, в образе лося нет и намёка на страх перед неминуемой гибелью. Он из последних сил борется за жизнь, но явно не боится смерти. В образе орла нет упоения победой, он лишен пафоса торжества над жертвой. И лось, и орёл прекрасны в своей схватке. Действительно красиво переданы их напряжённые в быстром движении тела, сильные жесты, изящно изгибающиеся силуэты. И хищник, и жертва вызывают восхищение, они служат мировому порядку, каждый из них отлично справляется со своей ролью во вселенском процессе. Они оба несут ответственность за сохранение мировой гармонии. В художественном отношении эта композиция исполнена в порывистом ритме, но, тем не менее, она строго упорядоченная. Обе фигуры идеально вписываются в круг. Ни на миллиметр не нарушают изображения границ очерченной мысленно окружности. Однако у зрителя не создаётся впечатления замкнутости или ограниченности. А за этой внешней незамысловатой простотой, естественностью и динамикой борьбы кроется точнейший расчёт мастера и его чуткая художественная интуиция!
Продуманность каждого штриха и непосредственное ощущение стремительной скорости движений, высокое мастерство, наблюдательность и грациозность – всё это присутствует в исполнении так же и другой седельной покрышки из Пазырыкского кургана – I, где изображена борьба орлиных грифонов. Если в вышерассмотренной сцене исход битвы был ясен, чётко распределены роли атакующего и жертвы, то здесь мы можем лишь догадываться, на чьей стороне удача. Кажется, что грифон слева своим загнутым книзу клювом уже готов прокусить шею противника. Он не желает легко сдаваться – резко отворачивает голову, но не уходит от атаки, а контратакует, упершись изо всех сил задними лапами в землю. Передними лапами он вцепляется в шею соперника, который в свою очередь пытается отвести удар, оттолкнув лапу врага, и вывести его из равновесия. Интересно отметить, что у грифона справа задние лапы львиные, а передние – орлиные, а у левого грифона наоборот, задние с орлиными когтями, а передние явно указывают на принадлежность к семейству кошачьих хищников. Оба борца, как видно, сильны и ловки. В их образах в одинаковой степени проявляется и мастерство, и боевое вдохновение. Равные боевые шансы противников на победу подчеркнуты в композиционном решении. Симметричная уравновешенность лишена статики, она ничуть не сродни переднеазиатской геральдичности. Горизонтальная развернутость сцены в пространстве и симметрия позволяют ощутить насколько устойчивы позы борющихся грифонов, как напряжены их тела, сколь велика их воля к победе. Нетрудно почувствовать, что сам художник, создавший эту сцену, в восторге от обоих своих героев. И если в сцене терзания орлом лося нашло отражение наблюдательность охотника, то здесь, скорее всего, внимательность бойца, побывавшего, а может и участвовавшего, не на одной жестокой битве. В изображении нет ни штриха, указывающего на антропоморфизм. Никакой внешней связи с человеком! Только позы этих фантастических животных, их жесты и тактика ведения битвы вызывают ассоциацию с борющимися людьми. Сцена эта в целом напоминает некоторые элементы традиционной монгольской борьбы Хурешь и отдельных внутренних стилей Кунг-фу, когда цель борца состоит не столько в нанесении сильного удара или осуществлении резкого броска, сколько в том, чтобы путём усиленной напористой атаки выбить противника из равновесия и заставить его сдаться. Изображённая композиция, таким образом, действительно уникальна. Ведь нет письменных источников, нет собственно изобразительного материала, с помощью которого можно было бы судить о том, каковы были особенности скифского ближнего боя. Подобные изображения очень важны. Благодаря им можно не сомневаться в том, что скифы были отличными воинами и пользовались не только грубой силой, но могли применять ловкость, хитрость, тактический расчёт, обладали рядом разработанных в боях приёмов. Кроме того, они ощущали красоту сражений, ощущали экзальтацию, суровое вдохновение битв. Скифы избирали тактику ближнего рукопашного боя и стремились навязать его противнику; борьба с помощью боевых колесниц и длинных копий, какую практиковал Ассиро-Вавилонский мир, была им чужда. Стало быть, с полной уверенностью можно говорить об историческом существовании такого феномена как скифское «боевое искусство». Трудно, практически невозможно, описать каким было оно. Ясно лишь то, что мастерство воинственных скифов не только служило их высокому политическому статусу на исторической арене, но и вдохновляло, порождало своеобразное, удивительное по своей выразительности изобразительное искусство. Нельзя не вспомнить здесь замечательные слова С.И.Руденко о том, что рассматриваемые «силуэтные композиции – продукт самостоятельного художественного творчества и недюжинного мастерства. Конечно, не подражание чужим образцам, а свободное творчество одарённого артиста дало все эти замечательные вещи»[47].
Много споров и сомнений посеял среди учёных образ грифона. Большинство настаивает на переднеазиатских его истоках, другие деликатно намекают на закономерное продолжение в нём древней местной сибирской изобразительной традиции. В данном вопросе опрометчиво было бы впадать как в одну, так и в другую крайность. Более уместно занять нейтральную позицию. Нельзя отрицать влияния цивилизации Древнего Востока на скифов. Известно, что всегда существуют торговые и, конечно, культурные связи между оседлым миром и кочевниками. Имели место и военные конфликты. Но грифон скифов Алтая и грифон древних иранцев – различные персонажи. Переднеазиатский образ грифона вызывал у скифов, стоит думать, не более чем любопытство. В их собственных представлениях существовал этот сложный образ(тарандр), объединяющий в себе стремительность орла с его острым клювом, проворными крыльями и грациозную ловкость кошачьего хищника с мощными лапами, подвижным и выносливым телом. Как, должно быть, они подивились тому, что у далёких оседлых их соседей есть нечто подобное! Как в мифологическом и художественном мышлении зародился образ грифона? Об этом уже говорилось во второй главе, в связи с произведениями тагарского искусства. Чтобы указать на имеющийся чуткий слух у птицы, к голове орла некоторые тагарские мастера добавляли уши кошачьего хищника. Но, поскольку изображением головы тагарцы вполне довольствовались, то и фантазия их дальше не пошла. Однако, это всё равно один из ярчайших примеров, на основе которого можно делать некоторые основательные выводы по поводу того, как зарождаются и развиваются подобные образы. Так вот и скифский грифон возник в скифской среде, а не был скопирован с переднеазиатских образцов. Другое дело, что любой творческий человек, древний в том числе, восприимчив и внимателен ко всему, что происходит вокруг. Истинный художник, мастер своего дела, никогда не бывает чужд явлениям внешнего мира, он может поделиться своим опытом с каждым и так же поучиться у представителей другой художественной традиции, впитать в своё творчество элементы соседних культур. Нет ничего удивительного, что некоторые детали изображения скифских и переднеазиатских грифонов совпадают. Но это не повод для рассуждений о том, что сам образ – переднеазиатского происхождения, а к сценам борьбы скифские мастера обратились лишь потому, что видели нечто похожее на ассиро-вавилонских изделиях.
Удивительно своеобразен грифон в момент нападения его на горного козла. Небольшая по размерам композиция, выполненная в технике аппликации на одной из сидельных покрышек первого Пазырыкского кургана, привлекает к себе внимание стремительностью происходящего. Мастер ставит здесь акцент именно на внезапном резком захвате грифоном своей жертвы. Он делает сильный решительный прыжок вперёд и в единое мгновение хватает козла за заднюю лапу и вцепляется тут же ему в затылок. Как ловко и красиво настиг хищник свою жертву, как тщетны попытки сбежать, а тем более отразить такую атаку!
Скифскому мастеру был близок такой образ. Он восхищался ловкостью грифона, силой и грацией его движений. В этой сцене художник даёт возможность ощутить азарт охотника, захватывающий трепет победы. У жертвы нет ни единого шанса! Так вдохновенно изобразить сцену нападения грифа на козла мог, конечно же, человек, неоднократно участвовавший в охотах и битвах. Охота, известно, древнейший промысел. В процессе охоты человек многому учится у животных, узнаёт их повадки, запоминает характерные движения, испытывает свою силу. Верно отмечает В.А.Кореняко, что «охотничьи облавы были не столько хозяйственным занятием, сколько средством боевой подготовки воинов. Порой они легко переходили в прямые военные акции… Облавщики вступали в рукопашные схватки со зверем, пытавшимися прорвать кольцо окружения»[48]. Действительно, никакие длительные тренировки не способны заменить опыт, реального поединка. Разъяренное, напуганное животное, загнанное в тесный круг охотников, с ожесточением, изо всех своих сил боролось за жизнь. Чтобы оказать им сопротивление, не применяя оружия, охотник должен быть не просто равен животному по силе и агрессивности, но превосходить его. Часто охотились таким образом на кошачьих хищников. Одно неверное движение, один миг растерянности или смятения – и охотник мог быть жестоко растерзан зверем. Облавные охоты закаляли характер воина, учили его напрягать весь свой жизненный потенциал. Воин, проходя такие смертельно опасные испытания, буквально глядя в лицо смерти, отраженное в пылающих глазах хищника, всем своим телом и душой превращался в живое оружие, бьющее на поражение! Зная это, как-то нелепо говорить о том, что скифо-сибирский звериный стиль изобилует условностью в передаче движений и физических особенностей животных. Как никто другой, скифский мастер знал природу, ощущал каждым мускулом своего тела то предельное напряжение, которое должен был испытывать хищник, настигая жертву. Знал он и мучительность боли, когда острые когти животного впиваются в плоть; понимал, как важно уметь не замечать боль, чтоб оказать сопротивление и победить и выжить. Попытки передать всё это в зримых образах и составляют основу скифо-сибирского изобразительного искусства, особенно когда речь идёт о боевых сценах. Для воплощения сильных ощущений, ярких переживаний и пронзительных чувств не нужна детализация, реалистичность пропорций, перспектива и объём. Главное – стремительность, подвижность форм, порывистость линий, извивающиеся силуэты, резкие повороты фигур, в которых слышатся и ужасающие предсмертные вопли жертвы, и беспощадное рыканье хищника. Если волей-неволей приходится здесь говорить об условности, то понимать её надо, по удачному определению искусствоведа А.А.Михайловой, «как характеристику особого способа художественного обобщения, который связан с переформированием природной видимости объекта отображения»[49]. Скифский художник, изображая тело животного в схватке, беге или полёте, «переформировывает» видимую форму так, чтобы показать направление движений, дать предельно точную характеристику жеста, удара, броска. Понятно теперь становится, почему в скифском искусстве так часто мускулатура животного изображается знаками, похожими на запятые, кружки или скобки. Это лучший способ выразить саму суть движения и напряжения. Мы видим, как действуют животные в сцене, куда они движутся, какая часть их тела напряжена, а какая расслаблена. Но это не отвлекает наш взгляд от созерцания, происходящего в целом, и мы практически сразу проникаемся духом изображённого, ощущаем на эмоциональном уровне то, что чувствовал художник, создавая произведение.
Композиция сцены нападения грифона на козла из Пазырыкского кургана – I в полной мере доказывает все достоинства такого изобразительного приёма, когда движения тела переданы знаками в виде запятой. Крылатый хищник с клювом ястреба, львиными лапами и хвостом пантеры! Какой трепет внушает его вид. Достаточно лишь скобкообразной линии на задней лапе, и в стремительной ловкости его движений не приходится сомневаться. Жертва застигнута врасплох. Она сбита с ног, повержена на землю, но пытается выбиться из терзающих когтей. Отчаянный напряжённый изгиб туловища воплощает всю безнадежность сопротивления. Передние лапы козла подогнуты, а задними лапами он осуществляет дерзкую попытку скинуть с себя зверя. Вся сила его предельного напряжения выражена всего двумя штрихами – две крупные «запятые» на передней и задней частях туловища направлены в противоположные стороны. Это усиливает ко всему прочему ритм кругового движения всей композиции в целом. Создатель этого произведения проявил здесь как свою чуткость и наблюдательность, так и мастерство рассказчика, декоративный вкус и высоко развитую художественную интуицию.
Особый интерес представляет стилистическое решение изображений львиных грифонов в сценах терзания лосей на аппликациях кожаного покрывала из Второго Пазырыкского кургана. Здесь появляется новая черта в иконографии грифона. У них бычьи рога. Такое больше нигде не встречается. Можно лишь догадываться, с какой мифологемой может быть связано появление рогов травоядного животного на голове хищной птицы. Вероятно, это соответствует желанию ещё более усложнить образ фантастического существа, объединив в нём острый клюв и быстрые крылья птицы, проворное туловище кошачьего хищника и бычьи рога, во многих культурах соотносимые либо с солярной, либо с лунарной символикой. Уже проверенная скифскими мастерами поза жертвы с подогнутыми под себя передними и поднятыми вверх в попытке отбиться задними ногами и в данной композиции эффектно срабатывает. Создаётся ощущение напряжённости и порывистости движений. Даже если очень стараться, то всё равно в переднеазиатском искусстве такого нет. Искусство Древнего Востока тяготело к каноничности, к торжественности, статике. Любой сюжет ассирийского рельефа традиционен, поэтому, если речь идёт о сценах борьбы либо охоты, исход всегда ясен. Смысл тоже. Прославляется обожествлённая личность царя. Поза извивающегося в когтях грифона лося или оленя могла возникнуть только в скифской среде. Мы знаем, что пазырыкский грифон рано или поздно растерзает оленя. Но когда и как он это сделает? Благодаря изогнутому сильному туловищу копытного понятно, что животное не желает легко уступить свою жизнь. Вот-вот упрямая жертва нанесёт своими тяжёлыми копытами сильный удар хищнику и сбросит с себя его хотя бы на несколько секунд. Искусство ассиро-вавилонского мира никогда не даёт такой возможности зрителю – самому домысливать продолжение изображённой сцены.
Беспокойную порывистость линий, экспрессивную динамику в искусстве они не высоко ценили. Для переднеазиатского мышления это «варварство». В сценах битв, охоты, терзания на рельефах, например, Ниневии предстают мощные фигуры хищников, всем своим массивным телом подавляющие жертву и с ожесточённой жадностью терзающие её плоть. Оскал их морд внушает ужас, рельефно разработанные мускулы заставляют трепетать перед неограниченной силой. Именно торжество силы, агрессии и мощи вдохновляло переднеазиатских творцов. Скифов интересовало другое – не результат, а процесс борьбы, не упоение хищника кровью добычи, а ловкость, стремительность атакующего и упорство сопротивления жертвы. И это не случайно. Восхищение динамикой напряжённой борьбы порождено в скифском мире несомненным приоритетом ближнего рукопашного боя. В ассиро-вавилонском мире предпочитали дистанционный бой и широко использовали боевые колесницы. Пронзённый стрелой видит в последний миг перед смертью синеву неба, а поражённый ударом чекана или кинжала – заглядывает в глаза своего врага, как бы чувствует на себе горящий взгляд самой смерти. А это много значит. Это, собственно, и объясняет своеобразие скифо-сибирского искусства, бесконечную вариативность образов и оригинальность художественных решений, порождённых постоянным эмоциональным подъёмом, удивительным ощущением концентрации всех жизненных сил!
Причислить к ряду сцен борьбы, терзания, можно, хотя и с некоторыми оговорками, сложную композицию на предмете неизвестного назначения из Пазырыкского кургана –II. Стоит думать, что эта вещь играла какую-то ритуальную роль. Она, по-видимому, вставлялась во что-то, может быть, это навершие дышла колесницы, может – это скульптурно-графическое произведение насаживали на некий шест или прикрепляли к рукояти боевого оружия и торжественно несли во время каких-либо церемоний. Так или иначе, перед нами явно не утилитарный предмет. Здесь выражен, судя по всему, важный мотив из скифской мифологии, обладающий глубоким смыслом, или связанным с космогонией, или отражающим представления кочевников о законах бытия. Композиция поистине оригинальна. В ней объединены единым замыслом два самостоятельных по смыслу и по технике исполнения сюжета. Предмет вырезан из одного куска дерева. Голова грифона с широко раскрытым мощным клювом, огромными на выкате глазами, рельефно и ритмично проработанной скулой поражает своей экспрессивной поэтичностью. В ней ощущается грозная надрывность и пронзительность боевого клича. Своим клювом фантастическое животное изо всех сил удерживает голову оленя. Морда жертвы изображена столь жизненно, что мы можем видеть характерные для этого животного складки кожи под глазом и в уголках пасти. Выразительны так же и выпуклые глаза миндалевидной формы. Интересно, что морда оленя выполнена с достоверностью анималиста, а голова грифона с такой поразительной правдоподобностью, что уже охотно верится в действительное существование этого фантастического существа! В то же время сама сцена может быть расценена весьма схематичной с современных, естественно, позиций. Действительно, просто было бы воспринять это как схему, демонстрирующую, что грифон проглотил оленя. И всё.
При таком толковании возникает неразрешимое противоречие: как получилось, что мастер, столь чуткий к изображению физических особенностей живых существ, допустил такую «условность» в передаче их действий? На самом деле нет никакого противоречия! Перед нами не схема, не «условность» или что-либо такое. Это собственно, даже не иллюстрация того, как хищник съел травоядное животное. Как ни странно, однако, скорее всего здесь в своеобразной манере представлена сцена борьбы, точнее – терзания. Почему? Ответ ясен, если учесть характерные черты анималистического мышления. Часть тождественна целому. Голова зверя – это он сам. Такая «первобытная логика» соответствует неоспоримому закону Леви-Брюля – партиципации. Основные части животных выступают здесь вместо целого, поэтому перед нами сцена борьбы, а точнее – терзания грифоном оленя. Ниже, на шее грифона мы можем видеть композицию, выполненную в технике высокого рельефа. Грифон терзает когтями крупного гуся. Редко в искусстве встречается такой мотив. Птицеподобное существо, хищное по характеру, терзает водоплавающую птицу. Возможно, это связано как-то с представлением о противостоянии стихий или миров. Стихия огня (олицетворённая грифоном, связанным с небом, солнцем) борется с водной стихией, воплощённой в образе гуся. Может быть, небесное существо побеждает водное, хтоническое, противопоставляя верхний мир нижнему. В общем, небезосновательно предположение в связи с подобными сценами о зарождении в сознании кочевников дуалистических представлений. Об этом в своё время писал С.И.Руденко: «Есть ли это олицетворение победы, одержанной одной племенной группой над другой, где изображение животных не что иное, как изображение племенных тотемов, или это – появление дуалистического мировоззрения, по которому голова оленя, козла или барана олицетворяет солнце – свет, а другая, грифона, мрак, преисподнюю – это вопрос, требующий специального рассмотрения»[50]. Эта проблема не просто решается. Тем не менее, допустим, что в скульптурной композиции так на самом деле – грифон связан с тёмным началом, а олень со светлым. Но в рельефной композиции явно наоборот, грифон олицетворяет светлую стихию (огня, солнца, верхнего мира), а водоплавающая птица – тёмную (омут пруда, вода, нижний мир). Так, тьма, доходя до крайности, переходит в свет. Грифон, носитель тёмного начала в скульптуре, становится посланником света, верхнего мира в рельефе. Идея сродни даосской. Она несёт в себе отголоски анимизма, отражает понимание взаимозависимости всех свойств и явлений. Это говорит о развитом мышлении скифов, о полноценности их мировоззренческой системы. Соответственно опрометчиво видеть в некоторых скифских художественных элементах, визуально близких к переднеазиатским, результат заимствования, а сходные с ассиро-вавилонскими мифологические сюжеты и образы нельзя расценивать как результат активного влияния цивилизаций Древнего Востока на кочевничий мир. Отличительной чертой скифского искусства является повышенный интерес к тактильному аспекту восприятия изделия. Рассматривая один из лучших образцов пазырыкской пластики невозможно об этом не упомянуть. В аппликациях осязанию почти не отводится никакой роли, главенствует выразительность отдельных линий и силуэтов. В скульптуре и рельефе алтайские кочевники реализуют сполна то, что невозможно сделать в аппликации. Грифон с головой оленя в клюве производит ещё большее впечатление «на ощупь», чем тогда, когда мы созерцаем его издалека. «Каннелированное» (условно говоря) надклювье и рельефно разработанная поверхность морды оленя вызывают неподдельное неосознанное желание прикоснуться, детское стремление «погладить» очаровательного грифона. Не будет ошибкой предполагать, что древним алтайцам эти чувства были знакомы. Потрогав предмет, мы как бы целиком проникаемся им, становимся ближе к его сути, непосредственно ощутив его плоть. В случае с замечательными в художественном отношении ассирийскими рельефами, например, каждый завиток густой бороды чётко рельефно разработан, а любая жилочка листочков пальмы, всякое зёрнышко граната отмечено пристальным вниманием резчика. Тем не менее, желания трогать не возникает. Такое произведение можно только созерцать, оно словно держит строгую дистанцию между собою и зрителем. Когда речь идёт о скифском произведении, то смело можно утверждать, что оно рассчитано как на зрительное, так и на осязательное восприятие. Роль осязания действительно крайне важна во многих произведениях древнего искусства. По мысли А.М.Коршунова «особенно велика в мобилизации прошлого опыта роль осязания, которое образует основу объективирования, опредмечивания содержания чувственных впечатлений»[51].
Прикасаясь к подобному ритуальному предмету, мы точно пропитываемся заложенной в этом произведении идеей, сами становимся его частицей. Понятно, в такой ситуации закон партиципации в полной мере работает. Дотронувшись до поверхности рельефа, изображающего терзание грифоном водоплавающей птицы, человек, точнее его внутренняя энергия свободно входит в поток созданного древним мастером бытия, участвует в борьбе стихий, превращается в активного участника некоего космогонического процесса. Возможно, миру древних кочевников Сибири были близки представления о дуалистичности окружающего мира, способности одного начала бытия переходить в другое. На этом уровне сознания восприятия боевых сцен приобретает особую окраску. Перед нами не просто зарисовка из повседневно наблюдаемых событий и даже не рассказ о какой-то легендарной битве, произошедшей в Правремена, а живое отображение Великого Закона, перед которым трепетали, поклонялись, а главное – в нём только видели неиссякаемый источник вдохновения и воли к жизни!
В связи с вышесказанным, необходимо остановиться на парных симметричных изображениях птиц. Их нельзя безапелляционно расценивать как сцены боя. Но, во всяком случае, это не украшение, выполненное исключительно в согласии с декоративистскими склонностями художника. На первый взгляд, именно так и хочется подумать. Красиво! Как объяснить это удивительное чувство эстетического наслаждения? Симметричность захватывает сразу, чёткий ритм приковывает взгляд к каждому штриху – перед нами композиция аппликации в виде пары петухов из Третьего Пазырыкского кургана. Изгибы туловищ петухов, соответствующих хогартовской линии красоты, их роскошные гребни, гармонирующими с ритмом завитков на краю хвостов, их сильные лапы, вносящие устойчивость в динамичную композицию – всё это свидетельствует о высоких художественных достоинствах и настраивает на созерцательный лад. Однако, следует понимать, что симметрия соблюдена не только (и не столько) «для красоты». Мы имеем дело с очередной формой выражения идеи о дуалистичности бытия. Возможно, мы видим одного петуха и его «двойника» из потустороннего мира, где все с точностью до наоборот: светлое становится тёмным, а внешняя форма целиком идентична, но дана как бы в зеркальном отражении (известные суеверия, связанные у многих народов с зеркалами, между прочим, подкрепляют данное утверждение). Возможно же, два петуха, занявших исходные позы перед боем, придвинувшиеся друг к другу вплотную, чтобы помериться силами, непосредственно ощутить противника. И в первом, и во втором случае явно проступает идея борьбы двух начал.
Изображения петуха в скифском искусстве хоть и относительно редкий, но не единичный случай. На плоскодонном глиняном кувшине из Пазырыкского кургана по тулову были наклеены шесть силуэтных изображений петухов из толстой кожи. Три фигурки идут в одном направлении, три в обратном. Так, одна пара петухов друг к другу обращены хвостами, другая – головами и грудью. Интересно художественное решение хвостов этих петухов визуально напоминает изображение гребней, состоящих из трёх массивных завитков, у петухов с аппликации из Пазырыкского кургана – III. Это тот пример, когда один и тот же изобразительный инвариант выступает в разных функциях. Петухи эффектно смотрятся на туловище кувшина. Они наделяют образ этой вещи ритмом, подлинной военного марша, а слегка приподнятая передняя лапа позу боевой готовности.
Вообще, петух – один из наиболее загадочных мифологических и фольклорных персонажей. У многих народов во все времена он выступает как непременный участник оккультных практик. В некоторых русских деревнях до сих пор бытует поверье, согласно которому пение петуха (в неестественное для птицы время) принимается за знак неизбежной смерти в доме, где есть тяжело больной. Каббалисты утверждают («Зогар»), что петух три раза поёт перед скорой смертью человека. В «Теософском словаре» Д.Мида имеется указание на любопытный факт: «Так как петух был посвящён Эскулапу, и так как последнего звали Сотер (Спаситель), кто воскрешает мёртвых в жизнь, то восклицание Сократа – «Мы должны Эскулапу петуха» – как раз перед смертью этого мудреца, является очень выразительным»[52]. Да, сам по себе образ петуха, амбивалентен. Он поёт на рассвете, связан с солнцем, светом, с жизненной энергией. В то же время – он предвещает смерть. В этом нет противоречия. Смерть и Воскрешение, тьма и свет друг друга не отрицают, они не могут существовать по одиночке. Мы это понимаем умом, на абстрактно философском уровне. Древние ощущали, переживали это каждый день и каждую ночь всем своим существом. Только глубокое, жизненно сильное проникновение в саму суть тайны Великого Закона могло породить выразительный (точнее – пронзительно прекрасный!) во всех отношениях образ симметрично предстоящих друг против друга петухов из Пазырыкского кургана – III.
Не менее завораживающее впечатление производит аналогичная композиция с грифонами на медных, крытых листовым золотом пластинах из второго Пазырыкского кургана. Поражает не только агрессивный фантастический вид существ, но ещё и особенная декоративная разработка художественной поверхности. Распушенный гребень грифонов идёт по всей спине так, что они вызывают ассоциацию с диковинными допотопными ящерицами или драконами. Извивы гребня напоминают языки пламени. Ещё мгновение – и, кажется, пламя вырвется из оскаленных клювов. Миндалевидные глаза с широкими рельефными веками похожи на человеческие. Вытянутые вперёд когтистые лапы, напряжённо ощетинившиеся спины указывают на готовность к бескомпромиссной схватке. Предельно сконцентрированную в мышцах силу, порывающуюся обрушиться на противника, демонстрируют многочисленные знаки в форме кружков, скобок, капель росы и запятых. S-образная вертикальная линия гребня привносит в могущественный образ разъярённого зверя долю грозного изящества. Двойники уже приготовились вступить в бой. Их силы абсолютно равны. И мастер не показывает их схватку. Понятно, никто из них не одержит окончательной победы, никто не потерпит поражения. Но на энергии этой великой битвы держится весь мировой порядок.
Так, рассмотренные композиции из Алтайских курганов позволили увидеть образы реальных и фантастических птиц в их воинственной ипостаси. Время расцвета военного дела в древности, пришлось именно на тот период, когда на исторической арене видную роль играли сибирские кочевники с их богатой мифологией, своеобразным искусством и сложными взглядами на окружающую действительность. Именно тогда возник тот удивительный художественный феномен, что мы привыкли именовать «скифо-сибирским звериным стилем», в котором особое внимание уделяется сценам борьбы животных. Птицы и грифоны проявляют себя здесь как могущественные небесные воины, неустрашимые хранители вселенского порядка, вдохновители и хранители удачи скифских бойцов.
По-своему символичен тот факт, что раскопки скифских курганов Алтая велись с 1927 по 1954 гг., в это трудное для России, да и для всего мира, время. Курганы воинственных скифов раскрыли свои сокровища в XX веке, после того, как земля была полита кровью революций и двух мировых войн. Пришло время разобраться в их мудром, как всё древнее, завещании.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На протяжении всей работы неоднократно приходилось убеждаться в том, сколь многогранны и загадочно прекрасны образы птиц в древнем искусстве Южной Сибири. От Забайкалья до Алтая, от неолита до эпохи поздней бронзы первобытные мастера беспрестанно искали всё более удивительные формы и выразительные средства для воплощения пернатых в произведениях своего искусства. Рассматривая наиболее яркие образцы южно-сибирских орнитоморфных изображений, мы каждый раз видели всё их своеобразие, поражались их жизненности, эмоциональной насыщенности и вдохновенной красоте.
Всегда, когда речь идёт о первобытном искусстве, необходимо помнить о синкретичности древнего и традиционного мировосприятия. Учитывая это, собственно искусствоведческий анализ в настоящей работе неразрывно связан с рассмотрением общих черт исторических эпох и уклада жизни обитателей Древней Сибири. Важное место отводилось и описанию отдельных мифологем, чтобы избежать наивного проецирования своих субъективных впечатлений на смысл произведений. Стоит думать, что изобразительное искусство было чуть ли не тождественно мифологии. И перед нами, таким образом, оказываются не абстрактные иллюстрации к неким текстам или устным преданиям, а сами мифы, обличённые в зримую форму. Именно поэтому любую древнюю вещь нельзя рассматривать саму по себе, упуская из виду ту среду, в которой она была создана. Неудивительно, что в качестве библиографической основы для работы были использованы литературные источники разного характера. Приходилось обращаться к данным страноведения, этнографии, культурологии, к трудам по фольклору, мифологии, металлургическому и военному делу. Что касается именно исторической и искусствоведческой литературы, то неоднократно автор обращался к исследованиям общего характера, затрагивающим вопросы о художественном образе, символе, архетипе и т.д., а также к публикациям, посвящённым целиком какой-либо одной археологической культуре или же отдельно взятому региону. Анализ использованной литературы в данной работе автор счёл уместным свести к описанию наиболее ценных источников, в которых имеются указания на образы птиц или затрагиваются первостепенные и спорные вопросы и проблемы, связанные с изучением первобытного искусства в целом. Специально здесь было отказано в чёткой хронологической последовательности рассмотрения исследований. Делать серьёзный историографический обзор уместно в тех случаях, когда имеем дело с историей отдельной культуры или территории. Наша работа посвящена образам птиц. У этого вопроса собственной историографии нет, так как к нему прежде никто не обращался.
В первой главе исследования, рассказывающей о том каким было зарождение образа птицы в культуре народов Сибири, автор опирался на работы А.П.Окладникова, этого выдающегося учёного, чьи поистине монументальные труды стали символом всей отечественной археологии. Благодаря терпеливым, последовательным, беспристрастным описаниям наскальных изображений, изученных А.П.Окладниковым, стало возможно подробно рассмотреть стилистические особенности петроглифов, попытаться постичь их внутреннее образное содержание и, наконец, удалось во всей полноте увидеть и оценить лаконичную выразительность древнейших рисунков. В первой главе мы смогли наглядно доказать, что петроглифы – это не примитивные и не слабые попытки изобразить элементы окружающего мира в утилитарных, магических и заклинательных целях. Бесполезно, оценивая произведения первобытного искусства, применять к ним современные мерки. Синтетичность древнего мышления предусматривает соответствующий подход к изучению археологических эпох. Если, говоря о картине эпохи Возрождения или о произведении нашего современника, мы отдельно рассматриваем суть изображённого и художественные средства выражения этой сути, то в случае с первобытным искусством это сделать практически невозможно. Потому что семантика здесь неотделима от средств художественной выразительности. Всё вместе связано с уровнем развития ремёсел, с чувством ритма, с ощущением единения с окружающим миром и т.д. Творчество слито с магией и ритуальной практикой. Именно из-за этого в первой главе такое пристальное внимание уделяется этнографическим параллелям, привлекается материал исследователей С.И.Вайнштейна и С.В.Иванова. В результате анализа орнитоморфных петроглифов Забайкалья и Томских писаниц, мы пришли к выводу, что аппликативность силуэтных изображений было своеобразным средством художественной выразительности. Этот ритмичный, лаконичный язык давал возможность передать процесс, действие – парение, или позу готовности к такому действию. Умение птицы летать есть собственно её сущность, потому что именно в полёте раскрываются многие её функции. Она – медиум между трёх миров, «вещая птаха», знающая о всех стихиях, способная управлять ветром, вызывать дождь, сопровождать души умерших. Для первобытного художника важно было представить не сам объект, а его содержание и представление о нём, выделив наиболее характерное и выразительное. Как видно из рассмотренных петроглифических образов, они блестяще справились с такой задачей. Сила, ловкость, стремительность, грациозность обитателей и хозяев небесной стихии не могли не привлекать наблюдательных древних мастеров. Часто образ водоплавающей птицы соотносится с космогоническими актами. Когда на Новоромановской писанице мы видим утку, высиживающую яйцо, то стоит помнить, что перед нами один из вариантов мифа о сотворении Вселенной. Фигуры птиц на скалах Томи и Сакачи Аляна показаны в «условной манере». Всем ходом рассуждений автор стремился объяснить, что нельзя придавать данному искусствоведческому штампу отталкивающий негативный оттенок. Ту крайнюю степень лаконизма, которую мы привыкли называть «условностью» надо расценивать в данном случае как наиболее приемлемый приём художественной выразительности. Благодаря «условности» внимание зрителя сосредотачивается не на птице, не на яйце, а на таинстве великого действа, разворачивавшегося в далёкие правремена точно так же, как прямо сейчас перед нами, как каждый день, когда над тёмным горизонтом встаёт солнце. Не стремясь к иллюзорности, к объёмности мастера петроглифов, тем не менее, создают удивительные по своей жизненности образы. Например, мы подробно останавливались на фигуре Совы с Томской писаницы. Эта наводящая ужас своим уханьем обитательница болот и лесов предстаёт в статичной уравновешенной позе и производит впечатление готовности к агрессивной атаке. Примечательно, что художник не пользуется здесь сплошной выбивкой и не оставляет внутреннее пространство фигуры пустым. Он позволяет увидеть полное пушистое тело совы, выбивая маленькими точечками и треугольниками её рябое оперение. В конце первой главы было уделено внимание образу птиц в произведениях окуневского искусства. Окуневцы были носителями богатых мифологических представлений. Неизвестно, каким было их мировоззрение, но ясно, что оно отличалось сложностью, поэтичностью и образностью. В контексте изучения древних орнитоморфных образов на территории Южной Сибири важно учитывать немногочисленные, но выразительные изображения птиц, созданные талантливыми окуневскими мастерами, всегда удивляющими нас, исследователей XX и XXI в., красотой гравированных линий при отсутствии специальных металлических орудий. Поражает так же обилие фантастических образов в Окуневском бестиарии. Наряду с вполне правдоподобным рисунком, в котором можно узнать без труда редкого в наши дни степного сокола – балобана, есть крупные орнито-антропоморфные фигуры, извивающиеся в странных танцах, бегущие и подпрыгивающие. Переплетения причудливого и естественного в изобразительном искусстве окуневцев говорит о том, насколько близка для них была связь мира потустороннего и человеческого. Стоит думать, они очень любили жить, их восхищало всё в природе, с которой они сосуществовали в неразрывном единстве, и, тем не менее, они легко покидали этот мир, не сожалея ни о чём. Тело и душа – лишь формы, которые постоянно изменяются, распадаются, соединяются с другими, воссоздаются. Возможно, у окуневцев существовало некое подобие веры в перерождения, в переселения душ. К сожалению, такие выводы мы можем делать исключительно на основе изобразительного материала. Тем важнее вникать в каждый отдельно взятый сюжет, мотив и образ окуневского искусства!
В первой главе, таким образом, мы смогли увидеть образы птиц в их многообразных ипостасях. Встречались нам среди них демиурги, носители как светлых, так и тёмных начал бытия, медиумы, соединяющие миры и стихии, властители воды, воздуха и небес. В последующие эпохи птицы продолжают оставаться носителями данных функций. Но у них появляется вскоре другая серьёзная «обязанность», ставшая постепенно доминирующей, – хранить силу и удачу бесстрашных древних воинов, быть верными соратниками на полях сражений.
Тагарское искусство, исполненное суровой воинственности, демонстрирует образы птиц именно в этой ипостаси. О них было рассказано во второй главе. Об образах птиц в тагарском искусстве можно было бы писать отдельную обширную работу. О тагарском искусстве известно не так много, как хотелось бы. Обычно его изучают в контексте рассмотрения всего скифо-сибирского мира. Слава алтайских скифов, безусловно, затмевает такую культуру «скифоидного типа», как тагарская. Тем не менее, мы имеем дело со своеобразным и очень занимательным культурным феноменом. Обилие мегалитов в оградах и многочисленных курганных комплексах поражает своим величием. Монументальность ощутима даже в самой миниатюрной фигурке, украшающей псалий или рукоять. Каждый штрих и силуэт словно звучит в унисон грозному боевому кличу! Средства художественной выразительности чрезвычайно лаконичны и подчинены жёсткому ритму. Особенно велика роль ритма в оформлении рукоятки минусинских ножей и кинжалов, где с его помощью усиливалось движение руки бойца, подчёркивалось направление удара. Всё оружие тагарцев приспособлено для ближнего боя, дистанционных сражений они практически не вели. А именно в ближнем бою закаляется характер, формируется особая боевая этика – уважение к противнику и бесстрашие. Не будет преувеличением сказать, что статус воина в тагарском социуме был сакрализован, а битва расценивалась как особый вид ритуального действа. И вполне естественным было желание заручиться поддержкой высших сил в бою с врагом. Птицам в этом отношении уделялось особое внимание. Им отводилось почётное место на рукояти, их клюв часто непосредственно переходил в боевую поверхность клинка. Фигуры птиц, особенно на раннем (подгорновском) этапе (VIII – VI вв. до н.э.), образуют S-образный завиток, т.е. по У.Хогарту (1697 – 1764) «линию красоты». Английский график и теоретик искусства был прав, давая такое определение прекрасной линии, а тагарцы за тысячи веков до него сумели интуитивно определить форму идеальной гармонии, ясной и выразительной. Во второй главе приведены примеры, позволяющие убедиться в том, как много архетипического в образах тагарского искусства. То, о чём писали Пифагор и Платон, Конфуций и Лао-Цзы, косвенно находит отражение в искусстве тагарцев. Нельзя говорить, что у них было некое подобие философии. Они были носителями синкретичного по своей сути мифологического мышления, в ткань которого вкраплялись и фантастические образы, и представления о некоторых явлениях повседневной жизни, и космогонические воззрения, и, безусловно, по-своему понимали они жизнь, смерть и тот вселенский закон, который определяет мироустройство и весь ход бытия. Например, вкладыш ножа из деревни Корча визуально напоминает даосский символ «инь/ян». Это сходство на архетипическом уровне. Изгибающаяся фигурка птицы делит круг на две почти равные части, будто отделяя день от ночи, жизнь от смерти. Птица выступает здесь в уже знакомой из петроглифических изображений роли медиума между двумя началами. Выражаясь даосскими понятиями, птица стоит в данном случае на «Великом Пределе» миров и стихий. Однако, главная функция птицы в тагарском искусстве всё же – оберегать воина и многократно увеличивать его боевую мощь. А изображённые на псалиях головы птиц призваны были помогать всаднику управлять конём, направлять его жесты, делать их быстрыми и ловкими. А это так необходимо в охоте, в бою и просто в езде верхом! Действительно, образы птиц многое значили для тагарцев. Трактовать их однозначно, не представляется возможным. В других культурах скифского мира отношения к птицам выражалось в иных формах. При наличии определённых устойчивых изобразительных принципов, изображение птицы на каждом тагарском изделии глубоко индивидуально, отмечено особым своим неповторимым характером. На рубеже двух первых этапов тагарской культуры (подгорновского и сарагашенского), т.е. в V – VI вв. до н.э. некоторые тагарские мастера всё более склонны разнообразить образы птиц. Первобытный художник всегда старается подчеркнуть характерное, а так же гипертрофированно изобразить важнейшие жизненные органы. Теперь, как мы смогли убедиться на конкретных примерах, описанных во второй главе, мастера пытаются ко всему прочему наделить изображение такими чертами, какие придавали бы ему больше силы, могущества и выразительности. У птиц хороший слух, но уши их едва заметны. Всё чаще и чаще к голове птицы из-за этого стали прибавлять уши кошачьего хищника. Мы пришли к выводу, что итогом подобных поисков, а вовсе не результатом «влияний», «веяний», «заимствований» явились не удивительные орнитоморфные образы в тагарском искусстве, что принято называть «грифонами» (по привычке используя греческий термин, хотя на эллинского грифона тагарский даже внешне почти ничем не похож).
Так, образы птиц в тагарской изобразительной традиции всегда исполнены жизненной энергии, боевой решительности и благородства. Они как нельзя лучше соответствуют духу этой культуры, пронизанной великим преклонением перед могущественными силами природы и поэтикой суровых битв. Подробно рассмотрев тагарское искусство очень удобно перейти к знакомству с изображением пернатых в скифо-сибирском зверином стиле. В третьей главе был сделан акцент на семантическую и стилистическую роли птиц в сценах борьбы животных. По сути, последняя глава нашей работы логически продолжает и завершает тему, касающуюся воинственной ипостаси образов птиц, т.е. того сущностного, что стало превалировать над всеми остальными в эпоху позднего Бронзового века, когда стали формироваться крупные этнокультурные общности и активизировались миграционные процессы. Богатейший материал в связи с южносибирским искусством этого времени дают знаменитые алтайские курганы. Находки из Пазырыкских курганов сразу же поразили исследователей, некоторые из которых поспешили с выводами и приписали многие своеобразные черты искусства алтайских скифов влиянию могущественного ассиро-вавилонского мира. Для того, чтобы не впадать в подобную крайность и с большой осторожностью проводить межкультурные параллели, автор настоящей работы не сразу приступает непосредственно к рассмотрению скифо-сибирского материала. В начале третьей главы рассматривается явление, которое принято в культурологи именовать корвенгенцией. Исходя из тезиса о том, что любое великое явление культуры, в частности фольклора и искусства (от боевого до изобразительного), по природе своей всегда синкретично, мы пришли к выводу о бесплодности споров о прародине того или иного явления образа или сюжета. Мастера территориально отдалённых друг от друга культур черпали своё вдохновение из одного источника – природы, мира, бытия, где всё взаимозависимо, «всё сопричастно всему». Основная отличительная особенность сцен борьбы животных, где мы часто встречаем птиц и грифонов, – это проявление особого отношения скифов к образному началу в своих произведениях. Идея и форма реализуются в действии. Этим действием и живёт художественный образ. Стоит отметить, что в скифском мире между мастерством бойца и художника стёрты границы. Быт, война, верования и искусство подчинены единому динамичному ритму. В сценах терзания орлом копытного, в композициях со схватками орлиных грифонов мы ощущаем восхищение и нападающим, и обороняющимся. Их движения сильны, ловки и грациозны. Их битва залог сохранения мировой гармонии. Композиции скифский мастер часто вписывает в круг. Таким образом, за внешней порывистостью, экспрессией стоит продуманная, строгая упорядоченность и чуткая художественная интуиция древнеалтайского творца! Когда скифский мастер изображал бескомпромиссный поединок, он на собственном опыте знал, о чём идёт речь. В боях и облавных охотах закалялись его тело и воля. Каждым мускулом своего тела он ощущал то предельное напряжение, которое должен был испытывать хищник, настигая жертву. Знал он и мучительность боли, когда острые когти животного впиваются в плоть; понимал, как важно уметь не замечать эту боль, чтобы успеть перейти в контратакующую позицию, победить и выжить. Скифский воин и художник согласился бы с утверждением К.Г.Юнга о том, что «жизнь – это поле битвы; оно всегда существовало, и всегда будет существовать, будь это не так, жизнь подошла бы к концу»[53]. В завершении третьей главы были рассмотрены две композиции, которые тоже можно (с рядом оговорок) классифицировать как боевые сцены. Речь шла о симметричных фигурках петушков из Третьего Пазырыкского кургана и о подобном изображении грифонов на медных пластинах из второго Пазырыкского кургана. Мы пришли здесь к выводу о наличии в синкретичном скифском мировосприятии дуалистических представлений, что сродни в некоторой степени даосским идеям. Так подробное рассмотрение генезиса одного выбранного сюжета или образа в условных географических пределах – хороший способ подобраться к архетипическим основам искусства, в полной мере проявивших себя именно в первобытных культурах. Отношение к поэтичным и загадочным образам птиц позволяет проследить, какими были мифопоэтические и мировоззренческие представления древних, как зарождалось и совершенствовалось их мастерство в воплощении своих идей посредством зримых образов. В конечном счёте, пытаясь познать прошлое, проникнуться мироощущением предков, мы приобретаем ещё один шанс познать самих себя, ощутить те архетипичные начала, что и в наше время пронизывают культуру и повседневность. Образы птиц по сей день вдохновляют поэтов, певцов, художников и режиссёров на создание прекрасных произведений. И нет ни одного человека, кто хоть раз в жизни не замирал от восторга, слушая пение соловья, наблюдая полёт чайки или орла!
Прав был Герман Гессе когда писал, «что жить духом только в настоящем, в новом и новейшем – непереносимо и бессмысленно, что духовная жизнь вообще делается возможной только через постоянную связь с былым, с историей, со стариной и с древностью»[54].
с. 154-155.
[49] Михайлова А.А. Художественный образ и проблема условности в искусстве. – М.: МГУ, 1965, с.4. [50] Руденко С.И. Второй Пазырыкский курган. – Л.: ГЭ, 1948, с.53. [51] Коршунов А.М. Теория отражения и творчество. – М.: Политическая литература, 1971, с.75. [52] Мид Д. Теософский словарь. – М., 1995, с.235. [53] Юнг К.Г. Человек и его символы. – СПб.: БСК, 1996, с.96. [54] Гессе Г. По следам сна. – М.: АСТ, 2004, с.51.