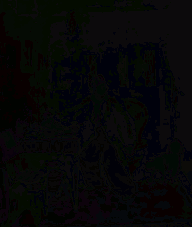- Вид работы: Дипломная (ВКР)
- Предмет: Культурология
- Язык: Русский , Формат файла: MS Word 66,97 Кб
Особенности работы А.Я. Головина над спектаклем ‘Маскарад’
Содержание
Введение
Глава I. Феномен театрального художника в культуре Серебряного века
1.1 Театральность как основополагающий принцип культуры Серебряного века
1.2 Мифологемы карнавала и маскарада в культуре Серебряного века
1.3 В.Э. Мейерхольд и "условный театр"
1.4 Роль художника в театре Серебряного века. Творческий путь А.Я. Головина. Сотрудничество Головина и Мейерхольда
Выводы главы 1
Глава II. Особенности работы А.Я. Головина над спектаклем "Маскарад"
2.1 Сценическая история драмы Лермонтова "Маскарад" до постановки Мейерхольда
2.2 "Маскарад" в постановке Мейерхольда
2.3 Воплощение концепции постановки Мейерхольда в работе Головина
2.4 Судьба постановки Мейерхольда в театральной критике
Заключение
Список использованной литературы
Введение
В истории русского театра постановка драмы М.Ю. Лермонтова "Маскарад", осуществленная В.Э. Мейерхольдом в Александринском театре в феврале 1917 года, накануне революции, занимает особое место не только благодаря дару великого режиссера или дате премьеры (по странному стечению обстоятельств пришедшейся на день Февральской революции), но в первую очередь благодаря уникальной по масштабу и значимости работе, проделанной участвовавшим в постановке знаменитым театральным художником А.Я. Головиным, создавшим к ней декорации и костюмы.
Совместная работа Мейерхольда и Головина над спектаклем, творческий синтез художника и режиссера для наиболее полного воплощения концепции постановки не является чем-то уникальным для 1900х-1910х гг. Этот синтез – естественное порождение культуры Серебряного века, с ее стремлением, с одной стороны, к синтезу искусств, работе на стыке жанров, а с другой – к театрализации и эстетизации повседневности, к осознанию жизни как игры. Постановка "Маскарада" в этом отношении является символичной не только с точки зрения специфики работы режиссера и художника, но и с точки зрения выбора самой пьесы. Остросюжетная романтическая драма молодого Лермонтова, в которой кипели сильные страсти и происходили страшные и таинственные события, при этом не имевшая практически ничего общего с "обыденностью" и реальностью и к тому же содержавшая в качестве основных движущих мотивов две центральные мифологемы культуры Серебряного века, – игру и собственно маскарад – оказалась, несмотря на то, что по времени написания отстояла от даты постановки лет на 80, как нельзя кстати для реализации на сцене провозглашенных Мейерхольдом принципов "условного театра", "театра синтеза".
Актуальность настоящей работы объясняется, во-первых, интересом к творчеству А.Я. Головина как театрального художника (причем не только в чисто искусствоведческой среде), свидетельством чего являются выставки, неоднократно проводившиеся в последние годы; во-вторых, непреходящим интересом к театру Серебряного века и работе режиссеров-новаторов того времени, заложившей основы современного русского театра (с той особой ролью, которую в современной постановке спектакля играет художник) .
Цель настоящей работы – дать анализ средств (сценография, костюмы, роль света, цвета и т.д.), с помощью которых А.Я. Головин стремился воплотить концепцию постановки наиболее полно, показать, как именно использовались данные средства и в чем заключалось новаторство Головина.
Цель работы обусловила постановку следующих задач:
рассмотреть творчество Головина и Мейерхольда в общем контексте культуры Серебряного века;
выявить роль художника в театре того времени;
рассмотреть сценическую историю драмы "Маскарад" и отражение ее в театральной критике для выяснения специфики восприятия данной драмы современниками;
дать подробный анализ работы А.Я. Головина над отдельными аспектами художественного решения постановки Мейерхольда (организация сценического пространства, работа с цветом, подготовка реквизита, костюмы главных и второстепенных персонажей).
головин мейерхольд маскарад лермонтов
Глава I. Феномен театрального художника в культуре Серебряного века
1.1 Театральность как основополагающий принцип культуры Серебряного века
Бурное развитие театрального искусства в начале XX века, появление в нем ряда революционных нововведений, изменения в иерархии участников театрального действия (если раньше на первом месте были актер и драматург, теперь на первое место выходят постановщики – режиссер, художник и т.д.) связаны с самой атмосферой того времени, со сменой культурной парадигмы. Если сама жизнь, в силу резкой смены ориентиров и "переоценки ценностей", мыслилась, с одной стороны, как нечто иллюзорное, а с другой – как объект эстетического к ней отношения, неудивительно, что театр и действительность оказались взаимопроникающими и взаимовлияющими явлениями
Период с конца 1880х по 1910е годы в русской культуре, который называется Серебряным веком, является уникальным, и вместе с тем похожие процессы можно найти и в культуре зарубежных стран этого времени. Возникновение феномена Серебряного века связано со сменой культурной парадигмы, обусловленной развитием общественных и технических наук. Научная и техническая революция и последовавшие за этим нововведения в быту (новые принципы строительства, возникновение небоскребов, появление мегаполисов как новых городских образований, новые технологии в промышленности, появление "ширпотреба", постепенная смена газового освещения электрическим, паровых двигателей – двигателями внутреннего сгорания, появление новых видов транспорта, увеличение скоростей), вследствие этого – возникновение новых представлений о пространственных и временных категориях, "стирание границ" между странами и возникающая при этом опасность стандартизации и унификации человека не могли не отразиться на культуре.
Культура Серебряного века – парадоксальное явление: в ней сочетаются активное усвоение зарубежных тенденций и при этом повышенный интерес к национальному. "Панэстетизм" как попытка замены религии для представителей искусства сочетается с расцветом русской философии (Н. Бердяев, Н. Лосский, Л. Шестов, Е. Трубецкой, С. Франк), в которой делается ряд серьезных попыток осмыслить феномен христианства и, в частности, православия (т. н. русский духовный Ренессанс); богословие становится достоянием светских людей. Интерес ко всему западному и современному сочетается с интересом к русской старине, русской истории; Россия осмысляется как часть Запада – и при этом как часть Востока. Отсюда интерес к культурам Китая, Японии, Индии, Ирана (например, мода на персидские миниатюры).
Основным принципом в культуре Серебряного века был поиск нового, стремление к разрушению канонов.
В конце XIX – начале XX в. под воздействием научно-технической революции картина мира, сложившаяся в умах человечества за все прошедшие века, начала стремительно рушиться. Вследствие изменения среды обитания изменились базисные принципы жизнедеятельности человека. Все это породило грандиозный кризис жизни, следствием которого стал кризис мысли, получивший название "декадентство" (от французского слова "decadence", что означает "упадок"). Декадентство – явление более широкое, чем факт литературного процесса: это определенное умонастроение, характеризующееся переоценкой всех прежде существовавших ценностей, отменой канонов. Актуальной становится философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше с его культом сверхчеловека. В искусстве господствующим стал стиль модерн (от французского "современный"); наиболее радикальным из всех модернистских течений в искусстве стал символизм, зародившийся еще в середине XIX в. во Франции (Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо) и развивавшийся впоследствии в литературе северных стран (Г. Ибсен в Норвегии, М. Метерлинк и Э. Верхарн в Бельгии). Модернисты хотели писать "о новом и по-новому": либо совершенствовать технику письма, либо вводить в литературу новые темы (в том числе те, что ранее находились под запретом – как "аморальные", так и богословские, так как считалось, что светскому человеку не подобает рассуждать о Боге). Часть критиков считала декадентство побочным продуктом символизма, связывая это явление с издержками провозглашенной свободы творчества – аморализмом, сатанизмом, повышенной чувственностью, нездоровым эротизмом, а также "вседозволенностью" художественных приемов, превращающих поэтический текст в бессмысленный набор слов. Однако большинство рецензентов употребляло это название без особого разбора, и в их устах слово "декадент" вскоре стало носить оценочный и даже бранный оттенок. До сих пор терминология эта не очень ясна, поэтому, скорее всего, лучше воспользоваться тем толкованием значения слова "декадент", которое предложила одна из зачинателей символизма – поэтесса З. Гиппиус: декадент – тот, кто смешивает "жизнь и искусство". Символисты же, в свою очередь – именно направление в искусстве (хотя и для символистов были характерны определенные "жизнестроительные", "автомифологизационные" устремления).
В России 1890х гг. эти западные веяния были весьма ощутимы: стиль модерн выходит в русском искусстве на видное место, в литературе поэзия (в 1870е-80е гг. пребывавшая в кризисе) начинает теснить прозу с "привилегированного" места. "Поистине соблазняющим контрастом – отечественной отсталости, бытовой рутине и провинциализму мышления – была на стыке двух веков блистательно стареющая Европа с ее аморальной свободой и утонченнейшим индивидуализмом! – вспоминал впоследствии один из современников этого процесса. – Какими вдохновительными представлялись и ее средиземноморская старина, и порывы к неизведанным далям! Казалось, что российское обновление с нею спаяно навсегда… В особенности обольщал французский (вернее – парижский)"конец века". Все в нем самое современное, самое необычное, самое "для немногих", а то и болезненно-упадочное, завораживало и заражало…". Однако модернизм в русской поэзии рубежа веков был подготовлен именно той самой поэзией середины XIX в., которая находилась тогда на периферии литературного процесса – т. н. поэзией "чистого искусства" (Ф.И. Тютчев, Я.П. Полонский и в особенности А.А. Фет, с его неожиданной для современников образностью, стремлением к максимальной музыкальности стиха, а также с его приверженностью философии Шопенгауэра).
В 1890е гг. течение модернизма еще до конца не оформилось и не определилось. В Санкт-Петербурге и Москве возникают поэтические кружки "новых поэтов" – на петербургских "журфиксах" у поэта Ф. Сологуба и Д.С. Мережковского (поэта, критика, эссеиста, впоследствии виднейшего идеолога символизма) и на московских собраниях у В. Я Брюсова и К.Д. Бальмонта. Печатным органом петербургских модернистов стал журнал "Северный Вестник" – первоначально издание народнического направления, преемник "Отечественных записок". Также Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус и Ф. Сологуб сотрудничали с редакцией журнала "Мир искусства" – органа кружка молодых художников (А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, Е.Н. Лансере) (о "Мире искусства" см. далее).
Д.С. Мережковский и Н.М. Минский выступили со своеобразными манифестами модернизма почти одновременно: в 1890 г. вышел в свет трактат Минского "При свете совести", а в 1892 г. (7 и 14 декабря) в аудитории Соляного городка в Петербурге Мережковским был прочитан курс лекций "О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы". Трактат Минского оказал влияние как на Мережковского, так и на Гиппиус, отразившую в своих стихах провозглашаемые Минским идеи т. н. мэонизма (необходимости сознательного стремления к несбыточному): "Мне нужно то, чего нет на свете, чего нет на свете" ("Песня"). Однако символизм был провозглашен именно в лекции Мережковского 14 декабря 1892 г., что стало началом новой эпохи в русской литературе и культуре.
Основная черта поэтики символизма – придание слову статуса символа (слово теряет свое прямое значение и начинает обозначать нечто иное). Это связано с философской основой символизма: мир вещей – только отражение мира идей, вещный мир искажает истину, но постигнуть иной, идеальный, мир человек может только через мир вещей, и можно это сделать при помощи символов, или вещей, обозначающих какие-либо понятия (греч. "symbolon" – знак, примета, признак, пароль). Сочетание слов уже зависит не от их лексического значения, а от тех символов, которые стоят за ними. Постижение этого скрытого смысла происходит интуитивно, и этому интуитивному постижению помогает музыка, как искусство, наиболее близко стоящее к этому "иному" миру, свободное от оболочки слов или красок.
"Среди множества идей, заполнявших и создававших культуру Серебряного века, особо выделяются идея "второй реальности" и идея "нового человека" – человека, состоящего из культуры". В первую очередь они отразились в театральном искусстве.
Идея "нового человека" входит в круг основных философских вопросов культуры Серебряного века: борьбы Христа и Антихриста, божественных и демонических начал в жизни, воскрешения и смерти, преображения реальности и человечества и надвигающейся угрозы его варваризации.
Новый театр рождается в русле все того же слома старых форм и поиска нового культурного языка. Прежний реалистический и бытовой театр казался устаревшим и неинтересным. Задача "воспроизведения" определенных социальных типов отступает перед задачей конструирования нового типа личности и нового типа артистического сознания. На это были так или иначе нацелены многие идеи символистского театра. Театр стал средоточием эстетических и стилевых исканий эпохи, и вместе с тем сама жизнь стала объектом театрализации.
Оказавшемуся на пересечении философских, эстетических, стилевых течений своего времени театру Серебряного века отводилась роль храма, места соборного действа, балагана, модернистских и авангардистских экспериментов.
По мнению основателя нового Художественного театра (1898 г.) К.С. Станиславского, верховная задача театра – "стремление отвлечь зрителя от современной пошлости". Другой видный реформатор театра, авангардный режиссер В. Мейерхольд, полагал, что главная цель – создание "театра синтеза" вместо "театра типов": "Уделяя в своем репертуаре наибольшее место произведениям отвлеченно художественного направления, без различия эпохи, концентрирующим стиль в широком смысле, театр имеет в виду художников, стремящихся к искусству, объединяющих живопись со сценой".
После отмены в 1882 г. театральной монополии в Петербурге и Москве быстро растет количество новых театров, разного рода зрелищных и увеселительных мероприятий. В начале XX века в Петербурге открываются Театр Литературно-художественного творчества (Малый или Суворинский), театр В.Ф. Комиссаржевской, Общедоступный театр под руководством П. Гайдебурова и Н. Скарской, "Новый театр" Л. Яворской, театр "Фарс", театр В.А. Неметти, театр "Аквариум", Панаевский театр, Василеостровский театр и т.д. В Москве в 1882 г. открывается театр Ф.А. Корша (самая долговременная частная антреприза), в 1890е гг. – театры "Скоморох", "Парадиз", в 1904 г. в саду "Эрмитаж" открыл свой театр "Фарс" С. Сабуров; в апреле 1905 г.С. Судейкиным, Н Вашкевичем и др. была предпринята попытка создать Театр Диониса (по имени греческого бога, празднества в честь которого стали прообразом театра); в 1909 г. появился театр К.Н. Незлобина, ориентированный на новейшие драматические произведения и режиссуру; с октября 1913 по весну 1914 гг. существовал Свободный театр К.А. Марджанова, на основе которого в следующем сезоне образовались Камерный (под руководством знаменитого впоследствии А.Я. Таирова) и Московский драматический театр В.П. и Е.М. Суходольских.
Параллельно шло бурное развитие индустрии развлечений (кабаре, парки, сады отдыха); развивался также кинематограф.
Впервые в истории российской культуры в 1906 г. собирается Всероссийский съезд драматических и музыкальных писателей; появляется множество специальных журналов ("Театр и искусство", "Театрал", "Маски", "Любовь к трем апельсинам"). Театральные разделы, заметки о спектаклях и театральной жизни становятся почти обязательными во всех толстых журналах и ведущих газетах. Театру уделяют внимание новые художественные журналы – "Мир искусства", "Весы", "Аполлон". Возникает такая специализация, как театральный критик (до этого театральная критика была частью критики литературной).
Все размышления театральных режиссеров-новаторов – это размышления о подчинении действительности новой реальности на сцене, попытка создания на сцене нового бытия. Собственно, профессия режиссера именно тогда и возникла. Созданию на сцене нового бытия были подчинены все внешние и внутренние атрибуты сценического действия. Режиссер занимался созданием целостного экспериментального мира со своими законами, отличного от обыденности. Отныне особое внимание уделяется музыке как части сценического действия, так как ритм сценическому действию задает именно она. "Сценический ритм, – пишет Мейерхольд, – вся сущность его – антипод сущности действительной, повседневной жизни". В новом театре сорежиссерами и соавторами спектаклей становились и художники, чья задача была – конструировать при помощи цвета и линии "вторую реальность", ирреальное сценическое пространство. Так было в спектаклях Мейерхольда (постановки пьес Ибсена, Метерлинка). Спектакли А. Таирова, Н. Евреинова, Е. Вахтангова – неважно, были это трагедии (излюбленный жанр символистского театра), вариации на тему народного итальянского театра, литургические драмы или старинные фарсы – тоже создавали причудливый мир "второй реальности", которая вытесняла собой жизненную театральность.
Для театра Серебряного века были характерны философичность, стремление к трансцендентному, мистицизм (отсюда интерес к пьесам бельгийского драматурга Метерлинка). Театр даже претендует на роль современного храма. Творцам Серебряного века хотелось заняться творчеством жизни, хотя не всегда то, что возможно в идеальном мире, можно перенести в реальность. Они стремятся к созданию "всенародного театра", "единого театра" (подобного театру античности), который способен вовлечь в сценическое действо и зрителя. Театр будущего мыслился как "союз всех искусств" и даже больше – как сама жизнь.
В новом театре слово как основной элемент сценического действа постепенно вытеснялось пластикой, пантомимой. Так, А. Таиров пытался поставить трагедию И. Анненского "Фамира кифаред" (на сюжет античного мифа; Анненский и сам активно переводил древнегреческих драматургов – при этом несколько осовременивая их) как "звучащий балет", в котором легкость сценической речи оттенялась особой медлительностью жеста, а гортанное низкое пение (античная драма немыслима без хора) сопровождалось взвинченной экспрессией танца.
Свой театр был не только у символистов (драматургия Анненского, Блока и др.) или футуристов (Хлебников, Маяковский, коллективная опера "Победа над солнцем"), но и у неореалистов (Горький, Андреев), хотя его принципы напоминали символистские. Так, пьеса Горького "На дне" – это, по сути дела, ницшеанская мистерия.
Идея нового человека, включая в себя идею о Сверхчеловеке и Богочеловеке, находила различное выражение в общественной и культурно-философской мысли, в литературе, в музыке А. Скрябина и С. Рахманинова. Не миновал театра и возникший в культуре Серебряного века интерес к творчеству Достоевского, оказавшемуся неожиданно созвучным духовным и философским исканиям эпохи.
В то время как формировавшаяся новая система актерского творчества Станиславского все более углублялась в психологию, теория Неподвижного театра и формировавшаяся в эти же годы "биомеханика" Мейерхольда сосредоточивались на ритмодинамическом существовании человека на сцене, отказе от психологии, ориентировались на средневековый площадной театр, гротеск, балаганные приемы.
Важную роль в новом театре начинает играть работа театрального художника. Художник "серебряного века" – это тоже представитель синтетического искусства; он работает и в традиционном "формате" (станковая живопись, скульптура), и в области прикладного искусства (книжная иллюстрация, театрально-декорационное искусство и даже дизайн). Типичным образцом таких синтетических художников были члены художественного объединения "Мир искусства".
Эта группировка выросла из кружка ("общество самообразования"), состоящего из учащихся петербургской частной гимназии К. Мая (Д. Философов, В. Нувель, К. Сомов, Л. Розенберг (Бакст), С. Дягилев, Е. Лансере). Центром кружка стал А. Бенуа, сын известного архитектора Н.Л. Бенуа. Он имел большое влияние на друзей как самый сведущий в искусстве человек. Члены кружка читали лекции по истории европейской и русской живописи, литературы, оперы, религий; увлекались музыкой Вагнера и театром. Хотя их деятельность носила несколько несерьезный оттенок, члены кружка пришли к мысли, что путем умелого воздействия можно воспитывать вкусы широких слоев русского общества. Эта просветительская задача стала главной в их деятельности.
Заметную роль в кружке начинает играть С. Дягилев. Со второй половины 1890х гг. он становится организатором всех последующих выставок, имевших этапное значение в культурной жизни России, а в дальнейшем – и законодателем художественной моды в Европе.
К ядру кружка вскоре присоединились и старшие – И. Левитан, К. Коровин, М. Нестеров, В. Серов, М. Врубель, А. Головин, Ф. Малявин, Н. Рерих, С. Малютин, Б. Кустодиев, З. Серебрякова. Почти все члены общества увлекались стариной (это называлось "ретроспективизм") и вместе с тем старались быть в курсе новейших тенденций западного искусства.
В 1899 г. был организован журнал "Мир искусства", который и дал этому движению название; этот журнал издавали сначала С. Мамонтов и М. Тенишева, а потом деньги на его издание стал выделять царь (благодаря В. Серову, писавшему его портрет); под эгидой этого журнала стали проводиться регулярные выставки. Возглавил журнал С. Дягилев; Д. Философов ведал литературной частью, Нурок и Нувель отвечали за музыкальные новости. Название "Мир искусства" очень точно отражает основную идею данного движения – стремление к синтезу искусств. Члены "Мира искусства" занимались не только изобразительным искусством, но и, например, устраивали "Вечера современной музыки", на которых исполнялись произведения Скрябина, Рахманинова, Дебюсси, Р. Штрауса. В журнале печатались З. Гиппиус, Д. Мережковский, Л. Шестов, В. Розанов; в литературном отделе публиковались литературоведческие и философские работы. Особенно значительной заслугой "Мира искусства" было открытие заново старого русского искусства прошлых веков; делалось многое, чтобы возродить традиции декоративно-прикладного искусства. Прекрасные предметы быта должны были стать не только достоянием музеев, но и войти в повседневную жизнь человека. На выставках "Мира искусства" появлялись не только живопись, но и посуда, мебель, декоративные панно. В 1903 г. "мирискусники" организовали коммерческое предприятие "Современное искусство"; идея его принадлежала И.Э. Грабарю, а, говоря современным языком, "спонсорами" и при этом непосредственными участниками стали московские меценаты и деятели искусства В. фон Мекк и С. Щербатов. "Современное искусство" было магазином-выставкой на Большой Морской улице, где демонстрировались и продавались мебель, одежда, ювелирные украшения; демонстрировались образцы дизайна целых комнат (этим занимались Коровин, Головин, Бакст, сам Щербатов); были там два экспозиционных зала (выставки К. Сомова, Н. Рериха, японского изобразительного искусства) . Именно мирискусникам принадлежит заслуга осознания Петербурга как уникального культурного объекта (одна из выставок "Современного искусства так и называлась – "Старый Петербург").
Мирискусники первыми стали относиться к печатному изданию как к произведению искусства, создали новый жанр в периодике – литературно-художественный журнал.
Наиболее отчетливо принципы "Мира искусства" были сформулированы во вступительной статье к первому номеру журнала. Она была написана Дягилевым (который и являлся, наряду с Бенуа, основным автором теоретических статей в данном издании), но остальные участники группы увидели в ней свою декларацию и эстетическое кредо. Дягилев основывался на откровенно эстетских позициях и рассматривал искусство как совершенно свободное и самоценное проявление творческой личности. Однако эта концепция не нова, она опирается на воззрения французских символистов и "парнасцев" середины XIX в., популярных в период Серебряного века в России – Т. Готье, Ш. Бодлера. Но чаще всего Бенуа и Дягилев ссылаются на Дж. Рёскина, называя его "могучим эстетом нашего времени" и необычайно высоко ценя за то, что в основу своего учения (панэстетизма) он положил принцип красоты. Рёскин выступал в 1840х годах против цивилизации, разрушающей красоту в жизни, пропагандировал следование природе – однако отрицал реалистическое искусство, так как оно отражало, по его мнению, не подлинную природу, а все те уродливые порождения цивилизации, которые свойственны современности. По мнению Рёскина, единственное убежище для красоты в современном мире – это музеи и театры.
Однако мирискусники не во всем соглашались с Рёскином (так, им претила точка зрения Рёскина о том, что природа выше искусства). Мирискусники признавали скорее версию панэстетизма, принадлежащую Оскару Уайльду. Уайльд, в 1880х гг. читая лекции о Рёскине и прерафаэлитах, вслед за Рёскином говорит о необходимости наполнить жизнь красотой, но он не отвергает современную цивилизацию – напротив, утверждает, что "паровозный свисток не испугает художника"; кроме того, он также отрицает нравственную сторону искусства. К концу 1880х гг. эстетические взгляды Уайльда складываются в систему, совершенно противоположную взглядам Рёскина: рождается культ "искусственности", "сделанности", искусство противопоставляется природе. Верхом такой эстетизации и преображения жизни в искусстве считается театр. (Не случайно героиня знаменитого "Портрета Дориана Грея", актриса Сибилла Вэн, нравилась Дориану только тогда, когда гениально играла любовь и страсть на сцене; когда же она полюбила по-настоящему, в жизни, она утратила свой дар и перестала для Дориана существовать).
Театральные образы нашли свое воплощение во внетеатральном творчестве мирискусников еще раньше, чем Бенуа, Бакст, Добужинский и другие начали работу непосредственно для сцены. Так, многие исследователи (и современные, и начала 20 века) описывали работы Бенуа (например, его версальскую серию) и Сомова именно в театральных терминах, как изображения "сценических площадок", "кукольный мир марионеток" и т.д.
Мирискусников увлекает театрализация жизни: так, на портретах современников обычные люди надевают старинные платья, театральные костюмы. Уходя от современности, мирискусники ищут тем и образов в самых "театральных" эпохах прошлого – например, в эпохе короля Людовика XIV, "короля-солнца", который не только был знаменит как балетный танцор, но и всю жизнь своего двора, по сути, превратил в огромный спектакль. В театральной обстановке придворного быта Франции и России XVII – XVIII вв. Бенуа, Сомов, Лансере и другие искали самого ярко выраженного "театрального". Поэтому их любимые персонажи – "веселые и нарядные комедианты, таинственные, улыбающиеся или испуганные маски – пьеро, арлекины, коломбины… Целый ряд карнавальных масок хлынул с их полотен, когда они подняли занавесы своих маленьких живописных театров"
Хотя с 1905 г. "Мир искусства" перестал издаваться, художники, входившие в это объединение, продолжали творить вместе. Просветительская деятельность "мирискусников" теперь была направлена на Запад: Дягилев делает выставки русского искусства в Париже, затем организует в Париже в 1907-1908 гг. концерты с участием знаменитых русских певцов, в. т. ч.Ф.И. Шаляпина. Задача этих концертов – познакомить зарубежного слушателя с русской музыкой, ее особенностями, мелодическим своеобразием. На этих концертах выступают Римский-Корсаков и Скрябин (как дирижеры). Рахманинов (как пианист). Успех этого предприятия был необыкновенный, и в 1908 г. Дягилев показывает в Париже русскую оперу, а в 1909-1914 устраиваются балетные "Русские сезоны", ставшие событием в мировой художественной жизни. Важную роль в успехе "Русских сезонов" сыграли и новаторская хореография М. Фокина, и музыка современных русских композиторов (Стравинского, Черепнина), и мастерство танцовщиков, но также и декорации и костюмы, выполненные по эскизам "мирискусников". Это был тот самый синтез искусств, которого "мирискусники" и добивались.
Хотя в 1910 г. выставочная деятельность "Мира искусства" возобновилась, в 1914 г. это объединение распалось. Вместе с тем его значение для развития русской культуры остается непреходящим.
Итак, общими тенденциями для всей русской культуры Серебряного века были поиск нового и стремление к синтезу. В культуре Серебряного века невозможно провести четкие границы между литературой, музыкой, изобразительными искусствами и театром: все они действовали как нечто единое (этой тенденции подверженной оказалась даже архитектура). Две эти тенденции взаимосвязаны: поиск нового вызывает к жизни необходимость слома канонов, выхода за пределы жанра и даже рода искусства. Адекватное отражение нового взгляда на человека, нового понимания мира, вероятно, и было возможно только на стыке разных видов искусства. Не только виды и жанры искусства проникают друг в друга: возникают точки соприкосновения между искусством и наукой, искусством и философией, наконец, между искусством и обыденностью. Обыденная жизнь сама превращается в предмет искусства, эстетизируется, возникает понятие "жизнестроительства". Более того, делается попытка стирания границ между миром реальным и миром "виртуальным"; особое внимание уделяется игре, театрализации. Не случайно постоянный мотив живописи, литературы и скульптуры Серебряного века – маскарад, а также персонажи итальянской комедии масок.
1.2 Мифологемы карнавала и маскарада в культуре Серебряного века
Итак, театральность как принцип культуры и жизнестроительства не только доминировала в Серебряном веке, но и сама становилась объектом осмысления в искусстве – живописи, графике, литературе и самом театре (таким образом, можно говорить еще и о феномене вторичной театральности). Своеобразным символом этой всепроникающей театральности стал образ карнавала и маскарада (карнавал и маскарад – явления одного порядка, но не совсем синонимы: карнавал – явление народной культуры, маскарад – элитарной).
Маскарад и театр связаны не только в живописи мирискусников, но и в самой культуре, в ее истории. Маска – атрибут маскарада, однако маска – и атрибут актера, начиная с античных времен. Античные актеры были вынуждены играть в масках, во-первых, потому, что один актер должен был играть несколько ролей сразу, причем как мужские, так и женские, а во-вторых, потому, что маски античного театра служили одновременно и своего рода "микрофонами", усиливая звучание голоса актера. И театр, и маскарад имеют общее обрядовое происхождение. Первые представления античного театра возникли из обрядов на весенних праздниках в честь умирающего и воскресающего бога Диониса, а в культурах многих народов праздники в честь смены времен года связаны с ряжением, антиповедением (достаточно вспомнить русский обычай "рядиться" на Святки) . Самый прямой наследник античного театра – народная итальянская комедия масок или комедия дель арте, возникшая непосредственно из древнеримских сценических представлений (ателлана, мим). При этом выступления трупп комедии масок приходились чаще всего на празднование карнавала (католический аналог русской Масленицы, имеющий то же обрядовое происхождение).
В современном языковом сознании понятия "карнавал" и "маскарад" смешиваются, являются синонимами. Однако карнавал и маскарад как культурные феномены отличаются друг от друга весьма сильно, хотя и являются, по сути, разновременными этапами эволюции одного и того же действа, имеющего, как уже сказано ранее, прямое отношение к обряду, причем не просто к обряду, а к т. н. обряду перехода. Переходные обряды – это как свадьба или похороны (отмечающие резкие смены состояния человека), так и праздники смены времен года (отмечающие, по сути, смерть и новое рождение всего мира и поэтому имеющие в своем составе элементы подражания первозданному хаосу – ряжение и антиповедение как раз относятся к таким элементам).
Празднества карнавального типа и связанные с ними смеховые действа или обряды занимали в жизни средневекового человека огромное место (собственно карнавалы, праздники дураков, пародийный аспект церковных праздников, сельскохозяйственные праздники, наконец, многие моменты повседневной жизни). Все эти обрядово-зрелищные формы, как организованные на начале смеха, резко отличались от серьезных официальных – церковных и феодально-государственных – культовых форм и церемониалов. "Они давали совершенно иной, подчеркнуто неофициальный, внецерковный и внегосударственный аспект мира, человека и человеческих отношений; они как бы строили по ту сторону всего официального второй мир и вторую жизнь, которым все средневековые люди были в большей или меньшей степени причастны, в которых они в определенные сроки жили". Вместе с тем эта неофициальность, как показывает Бахтин, отнюдь не всегда приобретала формы невинного веселья: смех в средние века – это смех грубый, жестокий, нередко циничный, и нет ни одного аспекта жизни, даже самого, на наш взгляд, серьезного (смерть, страдания), который не подвергался бы осмеянию.
Такое двойственное восприятие мира, как отмечает Бахтин, было общим для многих древних народов. Однако на ранних этапах серьезный и смеховой аспекты божества, мира и человека были, по-видимому, одинаково священными, одинаково, так сказать, "официальными". Это сохраняется и в более позднее время (так, в Риме триумфатора как воспевали, так и осмеивали – например, Юлия Цезаря во время триумфа обзывали лысым прелюбодеем; в русском свадебном обряде жениху, невесте и дружке – распорядителю, главному после молодых лицу на свадьбе – поются как величальные, так и корильные песни). Но в условиях "сложившегося классового и государственного строя" (тут Бахтин выступает прежде всего как последовательный марксист) полное равноправие двух аспектов становится невозможным и все смеховые формы – одни раньше, другие позже – переходят на положение неофициального аспекта.
В повседневной жизни носителями карнавального начала становятся шуты и дураки – носители особого социального статуса. Это не всегда люди с отклонениями в умственном развитии, но и не всегда актеры-импровизаторы (хотя могут быть и теми, и другими). В русской народной культуре, как отмечают исследователи древнерусской культуры Д.С. Лихачев, А.М. Панченко, В.В. Колесов, шутов не было, но были юродивые – явление прямо противоположного порядка: если шут противостоит тем нормам жизни, которые пропагандируются официальной церковью, юродивый своим антиповедением пытается образумить народ и научить их этим нормам "от противного".
Карнавал и смеховая культура, по Бахтину, всегда связаны с праздником, который в сознании носителя этой культуры является чем-то большим, нежели просто "выходной день". Чтобы день стал праздничным, в нем должно присутствовать "что-то из иной сферы бытия, из сферы духовно-идеологической", из мира высших целей человеческого существования, то есть из мира идеалов. Без этого нет и не может быть никакой праздничности.
Празднество всегда имеет существенное отношение к времени. В основе его всегда лежит определенная и конкретная концепция природного (космического), биологического и исторического времени. При этом празднества на всех этапах своего исторического развития были связаны с кризисными, переломными моментами в жизни природы, общества и человека. Моменты смерти и возрождения, смены и обновления всегда были ведущими в праздничном мироощущении.
В культуре Нового времени продолжением карнавала является маскарад. Как отмечает Ю.М. Лотман, в русской культуре маскарад был, с одной стороны, противовесом балу (стихийное, хаотическое веселье против строго распланированного церемониала), но с другой стороны, воспринимался поначалу как нечто "бесовское" (то есть как все то же антиповедение, вырванное из обрядового контекста). В 18 веке маскарад был элитарным и почти потайным развлечением и носил на себе черты кощунства и бунта. Противоположностью такому маскараду был тот, который и фигурирует в одноименной пьесе Лермонтова – первый публичный петербургский маскарад в доме Энгельгардта на углу Невского и Мойки. Посещать его могли все, внесшие плату за входной билет. Принципиальное смешение посетителей, социальные контрасты, дозволенная распущенность поведения составляли его отличительные особенности.
Любовь Бенуа, Бакста, Сомова к маскам комедии дель арте пришла к ним не только в результате изысканий в области истории сцены. Она родилась и под воздействием непосредственных живых впечатлений детства. Балаганы на Дворцовой площади в Петербурге, с их немыми и говорящими арлекинадами, навсегда заставили их полюбить образы Коломбины, Арлекина и других героев итальянского народного театра.
Любовь к комедии масок проявилась не только в постановках пьес, стилизованных под народный итальянский театр (см. параграф 1.3), но и в переводах и постановках пьес итальянских драматургов эпохи барокко, сотрудничавших с этим театром (К. Гольдони, К. Гоцци). Персонажи комедии масок, а также участники маскарада и сами маскарады – и один из распространенных мотивов литературы Серебряного века, в том числе произведений "младших символистов". Например, мотив маскарада является сюжетообразующим в романе А. Белого "Петербург" (1909), причем маскарад становится метафорой для "неподлинной", фальшивой, "двойной" жизни героев (неудавшегося террориста Аблеухова, играющей в богему Лихутиной, провокатора Липпанченко) .
С маскарадом, маской и т.д. связана еще одна идея символизма и вообще культуры модерна – идея двоемирия, "кажимости" окружающей действительности. Не случайно одним из излюбленных писателей в эпоху Серебряного века был немецкий романтик-фантаст начала 19 века Э. – Т. – А. Гофман, весьма ярко и талантливо воплощавший в своих произведениях мысль о том, что воспринимаемая нами реальность далеко не всегда подлинная, что у всего на свете существуют двойники и т.д. Основные предметы, символизирующие эту особенность мира Гофмана – кукла (неподлинный человек; существо, которым манипулирует чья-то воля) и зеркало (образ двойника, неподлинный мир или потусторонний мир, где правят отличные от нашей реальности законы, мир, близкий сновидениям и порой опасный для контакта с ним). Сюжеты, связанные с куклами, также характерны для русской литературы (в том числе драматургии) Серебряного века ("Балаганчик" Блока, балет "Петрушка" Стравинского на либретто Бенуа и т.д.) .
Характерно, что образ Серебряного века как маскарада, но не веселого, а мрачного и трагического, фигурирует и в произведениях более позднего времени, написанных теми, кто прежде сам творил культуру Серебряного века – например, в "Поэме без героя" А. Ахматовой (1940е). При этом в "Поэме без героя" автор видит картины Серебряного века именно в зеркале во время святочного гадания.
Хотя пьеса Лермонтова "Маскарад" никакого отношения не имеет ни к карнавалу, ни непосредственно к Гофману, культуре Серебряного века оказалась близка ее основная тема: взаимопроникновение маскарада и реальности, игра на маскараде, влекущая за собой реальные драматические события. Кроме того, пьеса эта, написанная совсем молодым поэтом-романтиком, повествовала о сильных характерах, имела четкий сюжет и интригу; помимо этого, в пьесе Лермонтова присутствовали элементы вторичной театральности (маскарад – сам по себе игра и вторичная реальность – как элемент сценического действия). Таким образом, выбор пьесы не случаен.
1.3 В.Э. Мейерхольд и "условный театр"
С "Миром искусства" была связана идея условного театра, в котором на первое место выступало не собственно действие, а его художественное оформление, а сам театр был направлен на отрицание "серой обыденности". Так, еще в 1907 г. Бенуа, Добужинский, Лансере, Рерих содействовали своими декорациями кратковременной, но яркой деятельности Старинного театра, организованного в Петербурге Н. Евреиновым. Целью этого театра была реконструкция забытых форм театральных представлений (миракль, моралите, фарс, пастурель и т.д.). Такая реконструкция не являлась в чистом виде идеей "мирискусников": на Западе в это время зарождалось нечто подобное, что потом дало начало особому театральному жанру, получившему распространение в середине 20 века. Однако от "мирискуснических" экспериментов оно отличалось своей подчеркнутой неэлитарностью, стремлением "разрушить стену" между актерами и публикой, вовлечь публику в действие. Так, "T. N. P." Жана Вилара использовал в качестве сцены подлинные памятники старинной архитектуры, организовывал массовые театральные представления на папертях соборов, во дворах замков и т.д., как это делалось в средневековье. Элементы условного театра – не только средневековой Европы, но и восточных стран (Китая, Японии) – использовали и другие режиссеры и драматурги (Б. Брехт, У.Б. Йейтс и т.д.).
Старинный театр Евреинова возбудил интерес к "игровому" театру в самых разнообразных проявлениях и жанрах: средневековому, староиспанскому и староитальянскому (комедия масок), к "низовым" формам сценического искусства. Поток старинных пьес все более и более заполнял театры начала 20 века. В новом репертуаре господствуют испанская драма, итальянская комедия, арлекинада и клоунада, балаганные представления – то есть пьесы "антипсихологического", игрового театра. Однако постановкой старинных пьес дело не ограничивается – в драматургии Серебряного века возникает новый жанр пьес, стилизующихся под стиль и манеру прошлого.
В.Э. Мейерхольд также испытал влияние старинного театра, но воспользовался его наследием совершенно по-новому. Он подчеркивал значение примитивного средневекового театра западных стран, где "театр звенит бубенцами чистой театральности", противопоставляя театральный традиционализм современному психологическому "жизнеподобному" театру. В старинном театре Мейерхольда привлекают условные формы сценического выражения, из которых можно извлечь уроки в решении проблем современной сценичности. В своей работе Мейерхольд соединяет опыт старинного условного театра и новейшие достижения в театральной теории Г. Крэга, А. Аппиа, Г. Фукса.
Несмотря на любовь к "простоте и наивности" традиционного народного театра, Мейерхольд не разделял эстетики Старинного театра – а возможно, именно из-за любви к простоте и наивности, поскольку видел в этом эстетское развлечение, причем не отражающее подлинного духа народного театра Средневековья ни в декорациях, ни в актерской игре.
В собственных постановках, осуществленных на различных студийных и любительских сценах, Мейерхольд пошел по пути возрождения старинных приемов на основе "свободной композиции" – свободного использования и претворения форм и приемов старинного театра в создании нового сценического языка, своеобразного стиля действенной, непсихологической игры. На этом основывались его режиссерские искания в таких постановках, как "Шарф Коломбины" Шницлера в декорациях Н.Н. Сапунова, "арлекинады" В. Соловьева и т.д.
По мнению Мейерхольда (которое он высказал в статье в журнале "Золотое руно"), следует разграничивать экспериментаторские сценические площадки и большие театры, задача которых – сохранять традиции, "постоянно воскрешать старину", однако не в шаблонных ремесленных декорациях, а в декорациях – шедеврах "истинного художника". Мейерхольд предъявлял к режиссеру требование быть художником, владеть рисунком, чтобы располагать группы исполнителей с учетом общего декоративного замысла постановки. Сам он таким умением обладал в высокой степени. Кроме того, Мейерхольд стремился к стилизации на сцене музыкальных и драматических произведений мировой классики "сквозь призму" тех прошлых эпох, в которые они были созданы. Эстетизация театрального зрелища, любовь к "гофманиане" и комедии дель арте, к народному театру роднила Мейерхольда с "Миром искусства". И наиболее плодотворным в этом отношении стал творческий союз Мейерхольда с близким к "Миру искусства" художником А.Я. Головиным.
1.4 Роль художника в театре Серебряного века. Творческий путь А.Я. Головина. Сотрудничество Головина и Мейерхольда
Так как русский модерн (культура Серебряного века) стремился к синтезу искусств, наиболее полно этот синтез мог быть реализован именно на театральных подмостках. Театр стал своего рода "ареной" для демонстрации новых средств и приемов художественной выразительности, где участники новых изобразительных течений отстаивали совместимость обыденной действительности с идеалами "подлинного искусства", пронизанного жаждой красоты. "Для многих художников-станковистов подмостки сцены стали своего рода точкой опоры, где можно было испытывать разные модели восприятия мира с помощью новых течений в области художественной культуры".
Если прежде декорации заказывались художнику, реквизит брали готовыми в различных фирмах, а режиссер работал только с актерами, то теперь, с возникновением режиссерского театра, вся структура и стилистика спектакля определялась режиссером и его непосредственным соавтором – художником-постановщиком, получившим возможность демонстрировать свои идеи и принципы на сцене. Именно театр стал конденсатором художественных идей, стимулировавшим развитие дизайна, полиграфии, кино и других смежных искусств.
Фигура яркого и талантливого художника А.Я. Головина, сотрудничавшего с "Миром искусства" и наиболее полно реализовавшего свой дар именно на сцене, в этом отношении является весьма характерной.
Александр Яковлевич Головин (1863 – 1930), гимназистом почувствовавший влечение к искусству, поступил в 1881 г. в Московское училище живописи, ваяния и зодчества – сначала на архитектурное отделение, потом на живописное. Учился успешно, хотя попытки следовать новейшим тенденциям в живописи не раз вызывали неодобрение части профессоров. После выпуска, испытывая серьезные материальные затруднения, Головин был вынужден некоторое время зарабатывать ремесленной росписью интерьеров. В поисках собственного пути он многое перепробовал: занимался станковой живописью, декоративными искусствами – проектировал мебель и утварь, делал майоликовые панно, участвовал, вместе с К.А. Коровиным, своим другом, в оформлении русского кустарного павильона на Всемирной выставке 1900 г. в Париже.
Решающим поворотом в биографии Головина стало приглашение в Большой театр. Первые же работы – декорации к опере А.Н. Корещенко "Ледяной дом" (1900) и к опере Н.А. Римского-Корсакова "Псковитянка" (1901) – оказались удачными. В 1902 г. он был приглашен в Петербург на должность главного декоратора императорских театров. С тех пор его творчество и лучшие достижения надолго связаны с двумя столичными театрами – Мариинским (музыкальным) и Александринским (ныне Театр драмы им. Пушкина) (драматическим). Одной из лучших работ, заставивших говорить о Головине как о смелом новаторе, было оформление оперы Ж. Бизе "Кармен" (Мариинский театр, 1908), в котором он разрушил стереотипы восприятия этого произведения. Головин работал и для "Русских сезонов" в Париже: оформил "Бориса Годунова" М.П. Мусоргского (1908) и "Жар-птицу" И.Ф. Стравинского (1910) – спектакли, имевшие триумфальный успех.
В предреволюционное десятилетие Головин сотрудничал главным образом с выдающимся режиссером-новатором XX в.В.Э. Мейерхольдом, который нашел в нем идеального соавтора в осуществлении принципа "чистой театральности". Их совместные работы в большинстве своем стали событиями истории отечественного театра. Из стремления утверждать театр как особый вид "условного зрелища" родился характерный для Головина принцип оформления, подчеркивающего специфическую театральность происходящего на сцене: портал, "арлекины", системы занавесов. Задача "выявить идею", целостный образ сценического представления, придав ему силу обобщенности и остроту трагического звучания, влекла за собой необходимость всякий раз оформлять сцену по-новому.
Начало их сотрудничеству положил спектакль "У врат царства" К. Гамсуна (Александринский театр, 1908). В этой постановке Мейерхольд и Головин старались в обстановке комнаты главного героя раскрыть его внутренний мир (и поэтому превратили заявленную в ремарке комнату бедняка-ученого в откровенно театрально-декоративный павильон, где присутствовали характерные для Головина и портал, и просцениум, и арлекины, и драпировки) Затем были поставлены "Дон-Жуан" Ж. – Б. Мольера (Александринский театр, 1910) и опера "Орфей и Эвридика" К.В. Глюка (Мариинский театр, 1911), оформленные в духе так называемого традиционного театра, где стилизаторское воскрешение старых сценических средств и приемов использовалось для решительного обновления театральной эстетики. Так, в "Дон-Жуане" постановщики стремились реконструировать "надушенное версальское царство" с помощью портала, позолоченных кулис, живописных панно, использования на сцене свечей (в сочетании с электрическим освещением зала). В этом "спектакле-празднестве" все строилось на жестах, движениях, нарядной зрелищности в духе придворных представлений эпохи Людовика XIV. Опера "Орфей и Эвридика" также стилизовалась под постановку театра XVIII в; Головин в своих эскизах изображал не только костюмы и декорации, но даже расположение актеров на сцене. В спектакле Александринского театра "Гроза" (1916) по пьесе А.Н. Островского, трактованной не как бытовая, а как национально-романтическая драма, действительность представала словно увиденной через восприятие возвышенной души героини. В опере А.С. Даргомыжского "Каменный гость" (Мариинский театр, 1917) в изображении Испании художник шел от романтизированных представлении об этой стране, выраженных в подчеркнутой символике цвета и орнаментального декора.
Венцом творческого содружества Головина и Мейерхольда был спектакль по драме М.Ю. Лермонтова "Маскарад", над которым они трудились в Александринском театре несколько лет. Его премьера, состоявшаяся 25 февраля 1917 г., прозвучала мрачным реквиемом уходящей в прошлое России. Здесь чрезвычайно сложное и торжественное оформление составляло органическую часть полуфантастического театрального действия – роскошного и пугающего.
"Маскарад" Головина завершил целую эпоху русской сценографии, подготовив ее выход на новые рубежи в следующем десятилетии. Анализу этой постановки будут посвящены последующие параграфы настоящей работы.
После 1917 г. Головин в театре был занят гораздо меньше, чем прежде, фактически он оказался не у дел. В последний раз ему удалось блеснуть превосходными декорациями в известном спектакле МХАТа "Безумный день, или Женитьба Фигаро" (1927) по пьесе П. Бомарше, но следующая его работа, декорации к "Отелло" У. Шекспира, не нашла в том же театре понимания – спектакль вышел уже после смерти художника в сильно искаженном варианте оформления. Вынужденную бездеятельность Головин компенсировал тем, что занимался журнальной и книжной графикой (в частности, он создал в 1922 г. превосходные иллюстрации к "Двойнику" Э. – Т. – А. Гофмана) и, более всего, живописью. Великий театральный художник, он был и незаурядным станковым живописцем, написавшим много портретов, преимущественно людей из своего окружения. Большой известностью пользуются его портреты Ф.И. Шаляпина в ролях Мефистофеля (1905), Олоферна (1908) и Бориса Годунова (1911), а также портрет В.Э. Мейерхольда (1917). Головин был и автором прекрасных пейзажей и натюрмортов, исполненных в его очень индивидуальном, с немалой долей декоративности, стиле. Однако подлинную славу ему принесла именно работа в театре.
Выводы главы 1
. Принцип театральности является магистральным в культуре модерна, особенно в его "русской версии" – культуре Серебряного века. Жизнь осознается как театр, при том что "жизнеподобие" из нового театра, созданного в Серебряном веке под влиянием как новаторских западных веяний, так и достижений собственно русских деятелей искусства, последовательно изгоняется. Театр Серебряного века – это эстетический, условный театр, в котором на первое место выходят пластика, цвет, жест. При этом вовсе не значит, что театр Серебряного века был эскапистским и оторванным от реальности. Напротив, он стремился истолковать реальность и прозреть в ней глубинный смысл, но совершенно новым способом.
. В театре Серебряного века наиболее наглядно реализовался провозглашаемый деятелями культуры этой эпохи принцип синтеза искусств. Одним из наиболее ярких проявлений синтеза искусств стала та роль, которая отводилась театральному художнику при постановке спектакля. Если до этого декорации, костюмы и реквизит были чем-то второстепенным, теперь именно благодаря работе художника концепция спектакля могла быть воплощена наиболее полно.
. Не случайно логическим завершением театральной культуры Серебряного века стал спектакль "Маскарад" в постановке В. Мейерхольда. Мейерхольд наиболее последовательно в своем творчестве проводил принципы условного синтетического театра, и для реализации этой концепции как нельзя лучше подходила пьеса Лермонтова: с одной стороны, она ничего общего ни по сюжету, ни по характерам не имела с пресловутой современностью, с другой – была насыщена той самой чистой театральностью, которую ценил Мейерхольд и давала возможность реконструировать одну из красивейших эпох прошлого (кроме того, романтизм как способ жизни сам по себе был близок Серебряному веку своей театрализованностью).
Глава II. Особенности работы А.Я. Головина над спектаклем "Маскарад"
2.1 Сценическая история драмы Лермонтова "Маскарад" до постановки Мейерхольда
"Маскарад" – не единственная пьеса Лермонтова, однако именно она наиболее известна из всего драматургического наследия поэта. Лермонтов написал "Маскарад" в 1835-1836 гг., будучи совсем молодым автором, и поэтому эта пьеса несвободна от некоторых юношеских черт (максимализм героев, некоторая преувеличенность страстей, натяжки и т.д.), что не мешает ей считаться классикой русской стихотворной драмы и не сходить со сцены даже в настоящее время. Отчасти "реабилитации" "Маскарада" в глазах театральной общественности способствовала именно постановка Мейерхольда (об этом см. п.2.2)
При жизни Лермонтова драматическая цензура трижды отвергала пьесу – в ноябре 1835, в январе и октябре 1836 г. В 1843 и 1848 гг. разрешения поставить "Маскарад" безуспешно добивался актер и режиссер Мочалов.31 января 1847 г. в любительском "благородном театре" Петровых в Галиче было сыграно несколько сцен из двух действий драмы (инициатор и участник постановки – А.П. Петров), но официальное разрешение на постановку удалось получить только в 1852 г.М.И. Валберховой. В ее бенефис 27 октября (но без участия Валберховой) в Петербурге на сцене Александринского театра шло несколько сцен из "Маскарада", смонтированных в мелодраматическую пьесу. Арбенина играл В.А. Каратыгин, Нину – А.М. Читау. В конце последней сцены Арбенин убивал Нину кинжалом (вопреки тексту самого Лермонтова) и, после добавленной к тексту Лермонтова реплики: "Умри ж и ты, злодей!", эффектно закалывался. Цепь интриг, опутывающих героев, изображение светского общества, то есть все, что раскрывало причины гибели героев, было выпущено. Потому единственный рецензент спектакля Р.М. Зотов назвал драму "не сценической". Те же сцены 21 янв. 1853 были показаны в моск. Малом театре в полубенефис М.Д. Львовой-Синецкой (Арбенин – К.Н. Полтавцев, Нина – Е.Н. Васильева, Звездич – Черкасов, женская маска – Воронова, Шприх – В. Соколов).
В первое время "Маскарад" мог появляться на профессиональной сцене только по инициативе отдельных актеров, как бенефисная пьеса, в сопровождении водевилей или фарсов. Запрет на постановку был снят в пору либеральных реформ, в апреле 1862 года. 24 сентября 1862 драму поставил Малый театр [Арбенин – И.В. Самарин, затем Н.Е. Вильде, Нина – Г.Н. Позднякова (Федотова), Звездич – В.Д. Ленский, баронесса Штраль – Е.Н. Васильева, Казарин – К.Н. Полтавцев, Шприх – С.В. Шумский, Неизвестный – Г.С. Ольгин]. Критика отмечала неудачный выбор актрисы на роль Нины. Юная Федотова, по собственному признанию, "не понимая еще любви замужней женщины, плохо чувствовала эту роль". Ее реалистическому дарованию чужда была и мелодраматическая трактовка драмы. Спектакль отличала присущая Малому театру тщательность. Зрители увидели на сцене "век блестящий", но вторая часть двуединой формулы Лермонтова "век ничтожный" не могла быть полностью раскрыта театром. "Маскарад" шел с большими купюрами. Были сокращены монологи Арбенина, его беспощадные самохарактеристики, вычеркнуты обличительные стихи в адрес света, язвительные реплики Арбенина и Казарина на балу – в общем 231 стих, или 11% основного текста пьесы.
В таком "очищенном" варианте драму показали и другие театры. В янв. 1864 в бенефис Ю.Н. Линской ее поставил Александринский театр (реж. Е.И. Воронов, в ролях: М.В. Аграмов, Е.В. Владимирова 1-я, А.А. Нильский, Е. Федорова 1-я). Работая над спектаклем, Воронов жаловался: "Пьеса эта совершенно не годится для сцены – она длинна, суха, скучна". Тем не менее первые постановки утвердили сценичность "Маскарада" и в 80-х гг. он входит в репертуар не только казенных, но и частных театров, его ставит Пушкинский театр Бренко в Москве (1880-82, постановка М.И. Писарева, в ролях: Арбенин – М.И. Писарев и В.В. Чарский, Нина – А.Я. Глама-Мещерская), Театр Корша в Москве (сезоны 1882-83 и 1888-89; в главных ролях М.И. Писарев, затем П.Д. Ленский, А.Я. Глама-Мещерская), Театр Неметти в Петербурге (1893, Арбенин – Я.С. Тинский, Нина – Кускова).
Чаще, чем в столице, ставится "Маскарад" на провинциальной сцене. В 60-е и 70-е гг. он идет в театрах Самары, Оренбурга, Одессы. В юбилейном 1914 директор императорских театров В.А. Теляковский запретил в связи с войной ставить драму в Москве и Петербурге ("теперь не до "Маскарадов"", – сказал он на заседании дирекции), но она с успехом шла в Киеве, Баку, Владикавказе, Ялте.
Купюры снижали обличительный пафос драмы, затушевывали элементы общественного разочарования, депрессии в характере Арбенина. Это способствовало тому, что на первом этапе своей сценической истории "Маскарад" трактовался как мелодрама. Устойчивость такой трактовки поддерживалась и дореволюционной наукой: "пьесу составляет мелодраматический сюжет из уголовной хроники"; Арбенина называли "извергом холодным", "расчетливым мучителем". В мелодраматическом плане играли Арбенина крупнейшие актеры: М.В. Аграмов (Александринский театр, 1864), П.Д. Ленский (Театр Корша, 1888-89), П.В. Самойлов (Народный дом, Петербург, 1914). Их Арбенин был страдающим человеком, жертвой случайных трагических обстоятельств.
Театр. критика отмечала несоответствие такой трактовки драмы замыслу Лермонтова. В 1893 П.И. Вейнберг возмущался, что Тинский играет "обыкновенного мелодраматического мужа, убивающего жену из ревности". В 1914 Н. Тамарин так расценивает игру Самойлова:". вместо трагедии не понявшей себя и непонятой души получилась мелодрама, моментами слезливая". Отдельные исполнители, например М.И. Писарев, П. Адамян, уже в 1870-е и 80-е гг. старались отойти от традиционной трактовки драмы и приблизить героя к замыслу Лермонтова. Они играли человека, в котором затаился "огонь жизни"; направленный по ложному пути, этот огонь становится страшной, разрушительной силой.
К нач. 20 в. относится декадентско-символистское переосмысление творчества Лермонтова. Первым, кто посмотрел на "Маскарад" сквозь "мистические очки", был режиссер А.Л. Зиновьев (1912, Театр Корша. худ. Костин, муз. А.А. Архангельского; Арбенин – А.И. Чарин, Нина – Валова, Неизвестный – Смурский, баронесса Штраль – Кречетова, Шприх – Б.С. Борисов, Казарин – Горич). Пьеса ярких страстей игралась в полутонах. Затянутый темп, полусвет, приглушенный тон – все должно было создавать зловещее ощущение. Один из музыкальных номеров многозначительно назывался "кошмар Маскарада". Рецензенты отмечали, что вместо таинственного страха в театре "царила скука", что Чарин при первом выходе имел "лицо человека, совершившего несколько убийств", и "для последней картины у него уже не хватало черной краски". Постановку Зиновьева дружно осудила пресса. Декадентским веяниям был подчинен спектакль киевского Театра Соловцова. В постановке 1914 г. режиссер Бережной развивал идею "жизни-игры", призрачности и иллюзорности всего сущего.
Таким образом, подход к пьесе "Маскарад" в разные эпохи был разным и объяснялся общими взглядами режиссера, актеров и критиков на природу сценического действия. Разумеется, в эпоху "психологического", реалистического театра, где магистральное направление задавали драмы Островского и Толстого, "Маскарад" – романтическая пьеса в чистом виде – выглядел чужеродным, ходульным м чуть ли не инфантильным (что неудивительно, принимая во внимание возраст автора). Однако в эпоху условного театра, когда ценилась именно чистая театральность и "мессидж" постановки мог быть передан не традиционными средствами, а через организацию сценического пространства, декорации и т.д. (при этом чтобы реализации этого "мессиджа" не препятствовал слишком будничный сюжет), "Маскарад" оказался как нельзя более кстати.
2.2 "Маскарад" в постановке Мейерхольда
Под знаком символизма проходила и постановка "Маскарада" в Александринском театре в 1917 г., осуществленная В.Э. Мейерхольдом и художником А.Я. Головиным. Музыку к пьесе написал А.К. Глазунов, в ролях были заняты: Арбенин – Ю.М. Юрьев, Нина – Б.Н. Рощина-Инсарова, затем Н.М. Железнова, Е.М. Вольф-Израэль, Звездич – Е.П. Студенцов, баронесса Штраль – Е.И. Тиме, Казарин – Б.А. Горин-Горяинов, Неизвестный – Н.С. Барабанов, позднее И.Н. Певцов и Я.О. Малютин, Шприх – А. Лавров). Премьера состоялась 25 февраля 1917, а последний спектакль сыгран 6 июля 1941 г. В 1919 и 1923 гг. Мейерхольд внес коррективы в постановку, а в 1933 и 1938 создал новую сценическую редакцию.
"Словно бы нарочно приурочив премьеру к дням, когда русскую столицу охватило пламя Февральской революции, Мейерхольд, который, по едкому замечанию Кугеля, "строил" спектакль целые пять лет, "как некий фараон свою пирамиду", наконец показал Петрограду лермонтовский "Маскарад". На афише спектакля тоже могли бы красоваться популярные тогда слова "Узнавайте судьбу!". Только в отличие от прорицательниц и предсказательниц, Мейерхольд никого не обнадеживал. "Маскарад", который оказался "последним спектаклем царской России", мог бы называться "Закат империи": тема гибнущего строя звучала в нем явственно и мрачно". Вместе с тем Мейерхольд, разумеется, выпустил свой спектакль именно в день революции чисто случайно. Спектакль мог выйти гораздо раньше. Премьера планировалась на 1914 год (100 лет со дня рождения Лермонтова), но начавшаяся Первая мировая война отменила все юбилеи. Также откладывалась премьера из-за смены композитора (первоначально музыку к спектаклю написал поэт и музыкант М. Кузмин, но она Мейерхольду не понравилась, и он поручил это А.К. Глазунову) и актеров в некоторых ролях (несколько раз, например, менялась актриса на роль Нины); по ходу работы над спектаклем сменился и главный режиссер театра (вместо А.Н. Лаврентьева, положительно относившегося к новаторству Мейерхольда, этот пост стал занимать консерватор Е.П. Карпов), и, наконец, под угрозой смены по приказанию свыше оказался сам Мейерхольд как постановщик спектакля.
Спектакль действительно строился с невиданным размахом. "Это было нечто подобное огромной исторической картине, в личинах прошлого бытия бился живой пульс современности… Перед зрителями вставал огромный золото-холодный царско-светский Петербург лермонтовской эпохи, лицемерный и жестокий, где добро человеческих помыслов тонет во зле окружающей эгоистической черствости. Беззащитными жертвами становятся не только голубино-чистые души, но и натуры сильные, одаренные разумом и благородством". Возможно, исследователь здесь слишком сужает заявленную в спектакле проблематику, однако в дальнейшем Р.И. Власова делает ряд ценных замечаний по поводу концепции данной постановки, говоря о "гофмановской двуликости" создаваемого на сцене мира, о сходстве "Маскарада" в постановке Мейерхольда и "Петербурга" А. Белого (о Гофмане и "Петербурге" см. параграф 1.2 настоящей работы).
Сквозной темой "Маскарада", таким образом, стала тема иллюзорности, мнимости, призрачности окружающего мира. Название "Маскарад" расшифровывалось как пронизывающая все действие метафора "неподлинности" жизни, ненастоящих отношений, убивающих истинные чувства. Другим лейтмотивом спектакля была игра, тоже как метафора "неподлинной" жизни. Вместе с тем, как было уже сказано в главе 1, в культуре Серебряного века, с ее театральностью и увлечением различными видами "жизнестроительства", маскарад и игра были не просто метафорами неподлинной жизни, но метафорами жизни вообще. Сам Мейерхольд писал: "Когда нет маски и когда она на лице у действующих лиц маскарада – не понять". Теперь же эта эпоха кончалась и рушилась (во многих сферах российской жизни наблюдался кризис, вызванный войной и надвигающейся революцией, в очередной раз шла переоценка ценностей), и мрачный трагический маскарад, показанный на сцене, с настоящими смертями и сломанными судьбами, оказался для нее подходящим "финальным аккордом".
Постановка "Маскарада" вызывала ряд проблем еще в самом начале работы. В 1911 году, только приступая к работе над "Маскарадом", Мейерхольд писал, что атмосфера лермонтовской драматургии насыщена "демонизмом", писал об "убийствах сквозь слезы" и о "смехе после убийства". Понятие "демонизма" постепенно персонифицировалось в личности Неизвестного, который в самой пьесе появляется только в самом конце, у Мейерхольда же становится одним из ключевых персонажей. Трудности вызывала трактовка фигуры центрального действующего лица – Арбенина. Сохранились 2 записи Мейерхольда по этому поводу, обе относятся еще к 1911 году: "Лермонтов хотел написать комедию в духе "Горя от ума". В "Маскараде" прозвучала сатирическая нота. Арбенина он делает своим Чацким" и "Печоринство в Арбенине. Автобиографические черты в Печорине. Лермонтов – Печорин – Арбенин". Возобладала в конечном счете вторая концепция роли. По мнению К. Рудницкого, сближая Арбенина с Лермонтовым, Мейерхольд тем самым предрешал и толкование роли Неизвестного, в котором ему виделся убийца Лермонтова Мартынов – однако вряд ли эту точку зрения можно считать справедливой. Арбенина трудно сблизить с личностью Лермонтова хотя бы потому, что Арбенин, на словах презирая светские условности, сам оказывается заложником этих условностей и играет по их правилам; кроме того, Арбенина, при всей незаурядности его натуры, трудно назвать гением и поэтом. Неизвестного должен был играть В. Далматов, в облике и интонациях которого чувствовались "что-то жуткое" и "пронизывающий холод", однако Далматов умер задолго до премьеры, и эту роль поручили молодому актеру Н. Барабанову, который со своей задачей справился успешно.
На сцене нагнеталось настроение "сгущенной таинственности". Спектакль проходил "под знаком Неизвестного", который стал главным действующим лицом драмы. В странном и страшном одеянии он возникал, как рок, и бросал реплики под таинственную музыку. Зловещим был его облик (черная мантия, венецианская маска-баута), зловещим должен был быть даже сам его голос – голос безжалостного и гневного судьи. По окончании драмы он проходил через всю сцену за прозрачной тканью траурного занавеса. Складывалось впечатление, что именно Неизвестный держал в руках все развитие событий и предопределил трагическую развязку драмы. Тема Рока была присуща и другим спектаклям Мейерхольда, но персонификация Рока в виде конкретного лица присутствовала только в "Маскараде".
По мнению К. Рудницкого, Мейерхольд (и сотрудничавший с ним Головин) пытались дать в этом спектакле образ империи. "Пользуясь тем, что лермонтовские ремарки до крайности скупы и позволяют только догадываться о месте действия, режиссер и художник торжественно возводили на сцене образ дворцовой, величественной и монументальной России, окутывая ее парадные очертания атмосферой тревожной и мятущейся, настроением беспокойным, нервным, ароматом сладко-ядовитым, завораживающим, удушающим, пряным". Конечно, процитированная фраза не претендует на научную четкость формулировки, однако передает общую атмосферу достаточно ярко.
Мейерхольда в этой пьесе волновало "сочетание лоска с демонизмом". Как отмечал Мейерхольд, актеры в этом спектакле должны были следить за "красивою формою", "лощеною формою", но под этим лоском должны были бушевать страсти.
В постановке "Маскарада" Мейерхольд использовал уже знакомые нам по излюбленным "мирискусническим" сюжетам реминисценции венецианского карнавала и комедии дель арте. Только здесь венецианские аксессуары (маски и зеркала – о зеркале также см. параграф 1.2) оказывались вписаны в конкретику русской светской жизни середины XIX века. Более того, использование средневековых (или даже позднеантичных) по происхождению масок придавало оттенок средневековой игровой условности всему спектаклю. Не случайно Б. Асафьев, говоря о "Маскараде", сравнил его с "danse macabre" – средневековым танцем-песней (как правило, достаточно быстрым и веселым), прославляющим всепобеждающую и неумолимую смерть. Жанр танца смерти также возник в кризисную эпоху, когда средневековый мир опустошался постоянными войнами и эпидемиями, и старая система ценностей постепенно приходила в упадок, а новая ренессансная парадигма еще не выработалась.
В "Маскараде" Мейерхольд добивался особой слаженности актерского ансамбля. В работе с актерами режиссером решались самые сложные задачи. В процессе репетиции роли неоднократно переходили из рук в руки. Как было сказано ранее, самой сложной проблемой был для Мейерхольда Арбенин – персонаж сложный и противоречивый (с одной стороны, сильная личность, презирающая условности света, способная на настоящие поступки, имеющая ряд автобиографических черт автора, с другой – "игрок", как он сам себя аттестует, то есть человек, относящийся к жизни как к игре, причем как к игре по своим правилам, и в конечном итоге приходящий к преступлению и безумию). Исполнитель этой роли актер Ю.М. Юрьев вспоминал в своих "Записках", что поначалу в этой роли чувствовал себя неуверенно, но постепенно свыкся с трудной мизансценической партирурой Мейерхольда, а главное, "с интонацией трагической издевки над окружавшим Арбенина равнодушием, над бесчеловечностью мира, в котором он жил". Юрьев пишет также и о других исполнителях ролей в этом спектакле, отмечая "врожденную женственность, изящество и прекрасные выразительные глаза" Рощиной-Инсаровой (Нины), вносившей в спектакль "атмосферу тридцатых годов", что делало образ Нины "подлинным"; "эффектную внешность", "музыкальный голос" и "общую выразительность исполнения" Е. Тиме (Штраль); в Казарине Горин-Горяйнова отмечал, что это "человек весьма незаурядного ума… проницателен, остроумен…, умеет держать себя в обществе и производит впечатление светского льва".
Оформление сцены отражало замысел спектакля (об оформлении сцены см. подробнее параграф 2.3). Сам принцип сценической планировки "Маскарада", однако, не был нов: сходные принципы Мейерхольд уже реализовал в своей постановке пьесы Мольера "Дон-Жуан" – как отмечает в процитированной ранее работе Р.И. Власова, "Маскарад" можно считать в этом отношении русским вариантом "Дон-Жуана".
Например, величественный портал, открывавший сцену, не убирался ни в одном действии, свет в зале во время действия не гасился. В сценическом портале повторялись архитектурные мотивы зала; таким образом, сцена срасталась с архитектурным ансамблем Петербурга. В то же время система полузанавесов и ширм позволяла в каждой картине изменять сценическое пространство. Игра занавесов придавала очертаниям спектакля зыбкость, неустойчивость, смутную тревожность и в то же время позволяла режиссеру подавать многие эпизоды крупным планом. При этом Мейерхольд решался даже при помощи занавесов и декораций дробить на куски цельные монологи: монолог мог быть начат в одной декорации, продолжен на просцениуме перед закрытым занавесом и закончен в другой декорации. Эта изменчивость, возведенная в принцип, способствовала общему ощущению сдвинутости, таинственности, к которой стремились режиссер и художник. Вместе с тем Мейерхольду нужны были не "призрачность" в дурном смысле слова (то есть непонятность, размытость, ложная многозначительность) и "туманность": он хотел добиться сдвинутости и некой инфернальности вполне реального, конкретного и на первый взгляд устойчивого мира. Поэтому такое большое внимание уделялось вещественному наполнению сценического пространства – даже предметам бутафории и мебели (вплоть до игральных карт и фарфоровых безделушек в комнатах персонажей). И мебель, и аксессуары были несколько большего размера, чем бытовые, что, во-первых, давало возможность зрителю лучше их рассмотреть, а во-вторых, придавало вид "укрупненности", значительности всему происходящему на сцене.
Четыре действия драмы Лермонтова Мейерхольд разбил на десять картин. Из этих десяти картин только две – вторая (маскарад) и восьмая (бал) – захватывали весь планшет сцены от ее дальней глубины до края просцениума. В остальных 8 картинах глубина сцены не раскрывалась, интерьеры строились относительно небольших размеров, доминировали тщательно выстроенные драматические дуэты, трио и монологи. Зато в картинах маскарада и бала многофигурные массовые композиции Мейерхольда поражали своей причудливой и нервной динамикой.
Один из современных критиков назвал "Маскарад" "оперой без музыки". Это определение вполне соответствует замыслам самого Мейерхольда. Более того, именно партитура, созданная автором музыки к спектаклю А. Глазуновым в 1926 году, помогает прояснить многие вопросы, связанные с постановкой пьесы. Так, Мейерхольд разделил музыкальные номера, поручая их двум оркестрам: закулисному и тому, что предполагалось разместить под сценой. Листы этой музыкально-пространственной партитуры разделены на три колонки: первая содержит музыкальные номера "закулисного оркестра", во второй помещается текст Лермонтова (реплики, которые акцентируются музыкой), и третья колонка представляет собой перечень музыкальных номеров, исполняемых "оркестром под сценой". Здесь содержится указание на трехплановость действия, как в средневековой драме (земля, ад и рай). Пространство оркестровой ямы – это ад (поэтому Головин перекрывает эту часть пространства просцениумом, делает туда два схода, а боковые части затягивает алым шелком); оркестр под просцениумом должен был фиксировать инфернальные моменты действия, давать своеобразные стоп-кадры в его развитии. Именно оркестру под сценой была поручена музыка всех пантомим, то сеть своеобразные музыкально-пластические замедления ключевых эпизодов ("жужжание" маскарадной толпы, потеря браслета, передача браслета князю Звездичу, фразы Неизвестного, рассматривание браслета Арбениным, симфоническая картина после отравления Нины, и, наконец, "аккорды" хора в финале). Закулисному же оркестру поручались музыка танцев, исполняемых на балу, фортепианные пьесы, а также за сценой певица исполняла романс Нины. В завершении сцены маскарада и в финале оба оркестра играли вместе. Актерский ансамбль строился согласно сложной ритмической и пластической партитуре, опиравшейся на ритмику лермонтовского стиха, и пинципы построения ансамбля были тоже музыкальными. "Изящество музыки речи, – писал Юрьев, – совпадало с изяществом их внешнего исполнения. Сдержанность, недоговоренность, намеки и полутона дополнялись многозначительными паузами и мимической игрой". Каждому актеру в каждой сцене Мейерхольд дал такую игру, которую при желании можно было бы провести и без слов, пантомимически – она была бы понята, "читалась" бы зрителями. Заданный режиссером рисунок игры диктовал исполнителям "Маскарада" соблюдение ритма стиха, заранее предусмотренные перемещения в пространстве сцены и обязательное пластическое выражение каждой эмоции. Кроме того, партитура "Маскарада" предполагала в пределах каждого движения эмоции обязательный пластический знак ("точку"), предшествующий следующему эмоциональному движению (например, бросание на рояль перчаток, откидывание в кресле). Эти точки могли быть и незаметны для зрителей, но пропустить эту "точку" актер не имел права. Однако такая заданность помогала артисту найти нужную эмоцию, знание партитуры давало уверенность в себе и в праве обогатить партитуру множеством дополнительных оттенков. В этом были заложены основы будущей "биомеханики". Динамичные, бурные эпизоды сменялись в спектакле тихими и элегичными.
Злой иронией были продиктованы знаменитые круговые мизансцены спектакля – роковой круг игроков над карточным столом, танцующие маски вокруг Арбенина и Неизвестного, и. т.д.
Финал спектакля был овеян мистическим ужасом. Кульминацией мистического звучания спектакля была панихида, написанная на старинный церковный распев А.А. Глазуновым, которую хор А.А. Архангельского пел над гробом Нины. Эта панихида была не только по Нине, но и по всей уходящей эпохе. Сцена безумия Арбенина разыгрывалась на фоне этого пения. Зеркала, портреты, простенки – все в зале, где происходило действие, было затянуто черным флером; у входа в комнату, где стоял гроб, стояла толпа с зажженными свечами, проходила монахиня, суетливый кадет раздавал всем свечи. В финале опускался черный занавес с траурным венком посередине.
Увлекшись идеей могущества инфернальных сил, Мейерхольд одновременно пытался найти в "Маскараде" реальные истоки трагедии, сблизить драму Арбенина с драмой его эпохи. Сквозь атмосферу "таинственности" прорывался "голос века". Это помогло ему в последующей работе над спектаклем перейти от культа таинственности к исторической оценке конфликта героя с обществом. Внешне спектакль изменился мало. Отпали второстепенные элементы оформления, усложненность мизансцен, уменьшилось количество занавесов. В 1938 г. с Неизвестного была снята причудливая маска. Спектакль обрел психологический подтекст. Проверкой слаженности, конструктивной прочности спектакля оказалось его исполнение после Великой Отечественной войны в Большом зале Ленинградской филармонии. Несмотря на отсутствие декораций Головина, общий рисунок спектакля остался неизменным. Композиция спектакля, режиссерская партитура Мейерхольда, построение мизансцен оказали влияние на последующие постановки "Маскарада", особенно в театрах периферии.
Как отмечает К. Рудницкий, "Маскарад" для Мейерхольда был во многом итоговым спектаклем. Многолетняя, с перерывами, но все же последовательная работа привела к тому, что в этом спектакле наиболее полно реализовались некоторые излюбленные идеи режиссера. Так, много лет являвшийся ключевым для Мейерхольда мотив маски и балагана приобрел в этом спектакле новый смысл. Если в прежних постановках Мейерхольда ("Балаганчик", студийные вариации на тему условного театра) маска оказывалась для героя спасением от пошлости жизни или поводом для озорства и забав, здесь маска (в первую очередь Неизвестный в его венецианской бауте) превращается в символ Рока, неизбежности трагического финала. Практически символ маски возвращается к своему истоку – античному театру с его доминирующей темой трагедии рока. Гоголевский принцип "все не то, чем кажется" реализовывался на практике: бьющая в глаза пышность, весомость, осязаемость "вещного космоса" сцены оказывалась призраком, была чревата катастрофой. Фантасмагоричность происходящего была заключена именно в этой подробной реконструкции прошедшей эпохи. Причастность зрителя к действию, обязательная для теории и практики условного театра, на этот раз обретала характер сопричастности зрителя к истории, историческому акту. "История, остраненная и эстетизированная, связывалась тем самым с современностью и отвергалась"
2.3 Воплощение концепции постановки Мейерхольда в работе Головина
Место "Маскарада" среди других театральных работ Головина. Процесс работы над постановкой
Работа А.Я. Головина над "Маскарадом" является, по мнению многих исследователей, основной из всех его театральных работ. Она подытоживает целый период его театральных исканий, и в ней особенности творческого метода Головина как театрального художника обозначились с наибольшей полнотой. Особую значимость этой работы осознавал и сам Головин, признавая ее наиболее трудной и при этом наиболее удавшейся.
В процессе работы над "Маскарадом" Головин еще летом 1911 г. работал в ряде архивов и библиотек, посещал Лермонтовский музей, общался с компетентными лицами. Головина интересовало все, что относилось к эпохе написания "Маскарада" (начиная от мебели и кончая флаконами от духов). Вместе с тем собранный Головиным огромный материал использовался не весь целиком, путем слепого копирования или реконструкции. О механизмах отбора и структурирования материала можно судить по отметкам самого Головина на журнальных и книжных вырезках (образцы мод, интерьеров и т.д.), которые он сделал в процессе работы и которые сейчас хранятся в Центральном театральном музее.
Так как, по мнению Головина, в театральной постановке главное – выражение принципиального взгляда постановщика не только на само произведение, но и на автора и его эпоху, сам Головин при работе над историческим материалом стремился передать не столько сам материал, сколько свое впечатление от него. Поэтому у Головина полное копирование той или иной реалии практически отсутствует: даже в более или менее подробных копиях присутствуют изменения композиционного, колористического или иного порядка. Заимствовалась лишь часть костюма или предмета, которая далее могла компоноваться с деталями других памятников материальной культуры. Иногда предметы у Головина могли настолько видоизменяться, что практически полностью теряли сходство с "прототипом": из вещи заимствовалось сочетание цветов, или орнамент, или еще что-либо подобное, в то время как форма или размер отметались как несущественные.
По признанию самого Головина, им было сделано более 4000 зарисовок и эскизов. Имелись в виду, вероятно, все без исключения варианты, вплоть до самых черновых набросков; однако и не черновых эскизов сохранилось несколько сотен. Трудно сказать, чем именно руководствовался художник при выборе того или иного варианта; но ясно, что эскизы перерабатывались именно в ходе работы с режиссурой и исполнителями главных ролей.
Организация сценического пространства: занавесы, декорации, реквизит
Как уже было сказано ранее, сцена для постановки "Маскарада" имела ряд нововведений: лепной портал, просцениум с матовыми зеркалами, система занавесов и т.д. Портал служил своего рода рамкой для действия, подчеркивая условность происходящего; зеркала на просцениуме служили, с одной стороны, для разрушения границы между залом и сценой, с другой – усиливали иллюзорность происходящего. Просцениум отделялся от сцены спускными занавесами. Первый – главный, черно-красный с эмблемами карточной игры. Второй – разрезной занавес для второй картины. Третий – для сцены бала. Четвертый – кружевной для спальни Нины. И, наконец, пятый – траурный для последней картины. Эта система занавесов не только организовывала все действие, но еще и давала возможность менять основные декорации и мебель без специальных перерывов. В декорации сцены также входила система задников, написанных как панно: живописные "арлекины", свешивающиеся сверху; небольшие ширмы по бокам сцены.
В постановке был 10 смен декораций: маскарадный и бальный залы (только в этих сценах использовалось все сценическое пространство), две игорные комнаты, гостиная баронессы Штраль, кабинет Арбенина, спальня Нины и т.д.; все эти интерьеры были обставлены соответствующей мебелью и нарядно декорированы.
В первой части драмы показывались события одной ночи – эпизоды карточной игры, спасения Звездича Арбениным, поездки на маскарад, любовной интриги баронессы Штраль, ревности Арбенина и возвращения из маскарада. Эту сцену открывал главный занавес с карточной символикой; эти же цвета присутствовали и в "арлекинах" первой картины – "Игорный дом" (с добавлением темно-лилового). Темно-лиловый цвет в декорациях к "Маскараду" будет встречаться довольно часто; с одной стороны, это цвет торжественный и красивый. С другой – наряду с черным, он считается траурным, и по колориту мрачный и тяжелый. Красный и черный цвета в оформлении и занавеса, и игорного дома не только создают тревожную атмосферу, но еще и повторяют цвета карточных мастей – то есть намекают на игру как основной движущий мотив действия в данной картине. Как известно, карточная игра с момента ее появления стала символом судьбы, слепого рока (особенно игра в фараон, которую и ведут герои "Маскарада" – а также и другие герои русской классики, например, "Пиковой дамы" – но над оперой "Пиковая дама" Мейерхольд будет работать позднее).
Кроме черного и красного, в декорации игорного дома используются и другие цвета и оттенки: стены – темно-зеленые, белые пилястры, темно-лиловые ширмы. Мебель в этой картине тоже черная (для создания контраста). Когда Арбенин возвращал князю Звездичу выигранные у него деньги, занавес опускался, загораживая прочих игроков и оставляя на авансцене только князя и Арбенина.
В конце этой картины при вступлении оркестра первый занавес поднимался, обнажая маскарадный занавес. Основные цвета маскарадного занавеса были светло-зеленый с розовым и голубым; на нем был нанесен сложный рисунок (розовый шатер с поднятыми полами, драпировки, маски, листья, розы). С одной стороны, светлые, безмятежные и мажорные цвета маскарадного занавеса составляли контраст мрачной игральной комнате, с другой – эта безмятежность сама составляла контраст той дьявольской интриге, которая должна была начаться во время маскарада. Кроме того, на нем изображается важнейший символ спектакля – маска. Таким образом, центральные символы всего спектакля (карточная игра и маскарад) заявлены в оформлении занавесов, вводящих те картины, в которых каждый из этих символов появляется впервые. Этот занавес был не сплошной, а разрезной, в виде отдельных лент, обшитых бубенчиками. Такой покрой занавеса напоминает о покрое костюмов традиционных персонажей комедии масок (Арлекина, Коломбины): ворот, манжеты, подол, иногда пояс украшаются фестонами или лентами с бубенчиками. Занавес поднимается во время первых тактов кадрили, и еще несколько раз на протяжении сцены он то поднимается, то опускается, усиливая иллюзию маскарадной суеты.
Зал, в котором происходит действие (то есть сам маскарад в доме Энгельгардта) – роскошно убранный, с темно-синими стенами и желтым натертым до блеска паркетным полом, в центре которого располагается зеркало в барочной оправе. Зеркало, помещенное в центре внимания – также важный символ: как уже было сказано, это и "метонимия" Венеции с ее любовью к карнавалам (и, кроме того, с ее знаменитым стеклом), и знак неподлинности и иллюзорности происходящего, и знак присутствия некого иного инверсированного мира, опасности вторжения мистических потусторонних сил. Настежь открытые двери позволяют видеть две красно-желтые комнаты в псевдокитайском пестром стиле. Сначала, по замыслу Головина, одна из этих комнат должна была быть в турецком стиле, но потом он от этого отказался. Эти появляющиеся в проемах дверей комнаты также словно метафоризируют "искривления" пространства, "зеркальность" происходящего, присутствие параллельного мира, неустойчивость и нестабильность происходящего. Китайский стиль – это еще и указание на ярко выраженные восточные мотивы, встречающиеся в костюмах участников маскарада (о них см. далее). Мебель в первом (синем) зале белая с позолотой, обитая материей цвета сомо (желтовато-розовый). Вся площадь зала пустовала, давая режиссеру широкие возможности для организации маскарадных увеселений, но ее центральная ось была полностью загружена. Прямо перед зеркалом в углубленной раковине за балюстрадой размещался оркестр, а за ним на линии авансцены стоял огромный, рокайльной формы диван апельсинового цвета, на котором и завязывалась драма (это было то самое канапе из ремарки Лермонтова, на котором во время маскарада сидела Нина и рядом с которым она потеряла свой браслет). Светлые яркие краски интерьера в сочетании с маскарадными костюмами персонажей создавали действительно иллюзию "жизни как маскарада"; это был не столько реальный маскарад, сколько символ.
Декорация третьей картины, изображающая одну из внутренних комнат дома Арбениных, создает образ интимной, домашней жизни, противопоставленной пестроте и яркости маскарада. Она представляет невысокую комнату с белыми стенами, мебелью красного и орехового дерева, обитой светлой материей, светлым ковром и двумя горящими свечами на столе, пламя которых заслонено небольшими узорчатыми экранчиками. В арлекине, спускающемся над этой картиной, хотя и есть прежние красно-лиловые цвета, их мрачность умеряется наличием желтых и лиловато-розовых тонов. Однако траурные элементы (черно-белые ширмы, заиндевелое окно, за которым черная ночь, темный плющ – цветок смерти – на рамах зеркал) присутствуют уже здесь. Именно во время этой сцены происходит первая ссора Арбенина с Ниной на почве ревности (Арбенин еще в маскараде видел в руках у князя браслет Нины и теперь замечает, что у Нины браслет только один, что дает ему повод для гнева).
Во второй части драмы идет разрастание и усложнение интриги и при этом нарастание трагизма, что отражается и в оформлении сцены.
Начало сцены – комната баронессы Штраль – не предвещает ничего страшного: вся декорация решена в светлых и нарядных тонах (розовые стены, белые портьеры на окнах, светлая мебель с позолотой, желтые с розовым ширмы, рояль, зеркальная полочка с фарфоровыми безделушками). В кабинете Арбенина появляются более темные краски и более индивидуальная обстановка, в которой используется ложноготический стиль. В окраске арлекинов, стен, пола, мебели используются красные, лиловые, коричневые и синие краски (колорит насыщенный и тревожный). Костюмы участников (Арбенина, Шприха. Казарина, слуги) – черные и лиловые – не выходят из общего колорита сцены. Черные и лиловые костюмы присутствуют и в сцене в комнате Звездича (куда является Арбенин после прочтения им письма Звездича к Нине с твердым желанием расправиться с мнимым соперником). Кульминация тревожности и накала страстей проявляется в следующей за этим картине, для которой Головин создал свою знаменитую декорацию "страшной игральной" (и где происходит моральное убийство Звездича Арбениным, не решившимся на физическую расправу, но придумавшим нечто более страшное и действенное) (рис.). Сцена уменьшена до минимума красно-лилово-черными ширмами и низко опущенным арлекином, черного цвета с узкими лиловыми полосками и зигзагами. Вмещается лишь сдвинутый влево круглый стол, за которым сидят играющие, и часть дивана. Задняя декорация представляет собой низкую стену с единственным окном, которую боковые подсветки делают пылающе-алой. По стене вьются золотые линии, перемежаясь с черно-белыми пунктирынми вертикалями и черными медальонами в золотой окантовке. В верхних углах фиолетовых драпировок вокруг окна видны полуфигуры эмалево-черных атлантов. В окне видно черное ночное небо, по которому плывет зловещий оранжевый рогатый месяц. Мебель в комнате белая, обитая черной материей, пол застлан красным ковром. Доминируют в этой декорации три цвета, противопоставленных друг другу: красный (основная эмоциональная доминанта), приглушенный глубокий зеленый (цвет игорного стола) и фиолетовый. По силе экспрессии декорация "страшной игральной" более тяготеет к современности (напоминая Ван Гога), чем к эпохе Лермонтова. Общий инфернальный тон картины подготовлен репликой Казарина в сцене в кабинете Арбенина: "Теперь он мой!". Желая наказать князя, Арбенин возвращается в свою некогда заброшенную стихию порочных увлечений и игры, где правят бал такие, как Казарин, кредо которых "Что ни толкуй Волтер или Декарт, мир для меня – колода карт". Реплика Казарина в этом контексте приобретает почти дьявольскую тональность: "он мой" – не только потому, что Арбенин снова вернулся к прежней компании, но и потому, что отрекся от того, что внесла в его жизнь Нина – то есть от светлого и доброго, поскольку в случае с князем, затеявшим интрижку с Ниной, убедился в правильности выражения "Не делай добра – не получишь зла". Эта сцена перекликается с самой первой сценой пьесы (где действие происходит тоже в игральной), но и по сюжету, и по настроению она ей противопоставлена. Здесь главное уже не игра, а вырвавшиеся наружу страсти (ревность, гнев, оскорбленное самолюбие).
В последней части спектакля соединяются самые трагические сцены: бал, где Арбенин отравляет Нину, сцена смерти Нины и сцена сумасшествия Арбенина. Бал, с которого начинается эта часть, по сценическому решению чем-то перекликается с маскарадом. Сцена начинается с подъема бального занавеса (рис.) с богатым узором из цветочных гирлянд и ваз, в котором сочетаются белые, голубые, светло-зеленые и розовые цвета. В самой декорации бального зала доминирует белый цвет (стены, мебель), отличительная черта зала – малахитовые колонны. Арлекин зеленый с голубым, отделанный золотом. С одной стороны, такое обилие светлых и спокойных цветов создает атмосферу безмятежного веселья, с другой – зеленый цвет у Головина в колористическом решении данного спектакля маркирован отрицательно. Это цвет игры (зеленое сукно игрального стола), цвет ревности; наконец, слово "зеленый" в русском языке созвучно слову "зелье", то есть яд. Именно на балу Нина оказывается отравлена.
Сцену смерти Нины в ее спальне также предваряет занавес – знаменитый "кружевной занавес". Вся декорация спальни Нины выдержана в светло-голубых, серебристо-белых и светло-желтых тонах; обстановка роскошная и вместе с тем подчеркивает юность, наивность и кротость героини (в основном в этой спальне преобладают кружева). Таким образом, вся эта "кружевная" обстановка создает резкий контраст страшной сцене, которая в ней разыгрывается. В этой сцене для подчеркивания безысходности положения героини Головин единственный раз за весь спектакль прибегает к павильону вместо кулис: героиня оказывается как бы в клетке, из которой нет выхода. Последняя декорация представляет собой траурный зал.
Таким образом, в каждой сцене декорации и обстановка передают общее эмоциональное состояние (то эксплицитно, то путем контраста).
Костюмы центральных персонажей: символика цвета, сочетание историзма и условности
Костюмы, в которые Головин одевает своих героев, несут двойственную функцию: с одной стороны, передают стиль изображаемой на сцене эпохи, с другой – служат для более полного раскрытия характера персонажа или настроения сцены, в которой он задействован.
В этом отношении мужские костюмы представляют гораздо меньше простора для фантазии, чем женские. Если женщина эпохи Лермонтова была вольна, в принципе, одеваться достаточно свободно (в рамках неких этикетных условностей), то мужчина нередко такой свободы не имел, будучи связан необходимостью одеваться по форме, причем это касалось как военных, так и штатских.
Костюм центрального персонажа, Арбенина – не исключение. В его одежде нет ничего "фантазийного", это костюм обычного следящего за модой достаточно молодого человека 1830х гг.: элегантный черный фрак и темные панталоны. На эскизе костюма Арбенина Головин сделал помету: "Фрак должен быть сшит точь-в-точь, а не смешиваться с современным покроем, и обязательно по корсету". Единственное, что маркирует героя – черный цвет. Вместе с тем это реалистическая деталь: фраки в то время часто были черные. В черный же форменный сюртук одет в первых двух картинах и князь Звездич. Одинаковый цвет одежды сближает этих персонажей и при этом намекает на некий трагизм их дальнейшей судьбы. Черный цвет маркирует на маскараде и Шприха – "мелкого беса", плетушего интриги. Однако характер Шприха создают не столько костюм (вполне стандартная парадная одежда того времени), сколько грим и манера держать себя: горбоносый, с лошадиными зубами, в очках, с почти полностью лысым черепом и слишком пышными бакенбардами, он двигается по сцене в полусогнутом положении, постоянно мелькает, готовый оказывать всем услуги, пусть и самого сомнительного свойства. У баронессы Штраль Шприх появляется тоже в реалистическом костюме – форменном чиновничьем зеленом фраке; однако зеленый цвет в символическом сознании может ассоциироваться со "змеем-искусителем". Шприх приходит к баронессе потребовать долг, некогда сделанный ее покойным мужем – и поступок баронессы можно объяснить не только желанием спасти свою репутацию в свете, но и нежеланием быть втянутой в скандал с невыплатой долгов. Так как тут в дело вступают деньги, вся сцена приобретает дополнительный смысловой оттенок, почти роднящий ее со сценой продажи души дьяволу в средневековых мистериях.
Сочетание черного и лилового (уже попадавшееся в оформлении игорного дома) появляется в одежде Неизвестного, когда он появляется на маскараде в значительном и мрачном костюме венецианского карнавала (бауте): белая бумажная полумаска с клювом, черное с серебром домино, лиловый камзол.
Интересны костюмы двух женщин, впервые появляющихся на маскараде: жены Арбенина Нины и баронессы Штраль. Нина одета в короткое белое домино с красной подкладкой, черную с зеленой отделкой юбку и черную полумаску, баронесса – в красный корсаж, красный колпачок, черную юбку, черные перчатки. Пояс ее украшают красные и зеленые фестоны с бубенчиками. Эти две героини, с одной стороны, противопоставлены по цвету одежды (белое – красное), с другой – наличие красного и черного цветов (в той или иной мере) их объединяет, указывает на общность и трагизм их судьбы. Кроме того, в костюме баронессы присутствуют элементы, характерные для костюма итальянской актрисы комедии дель арте – Коломбины или Смеральдины: сочетание зеленого и красного, колпачок, пояс с бубенцами. Возможно, эти детали призваны ярче подчеркнуть роль самой баронессы в сюжете "Маскарада". В комедии дель арте, как известно, весьма распространен прием "кви про кво" – когда одного героя принимают за другого или он сам себя выдает за другого. Тот же прием использует и баронесса, но ее кажущаяся невинной шалость (она дает увлекшемуся ею на маскараде Звездичу браслет, потерянный Ниной, выдавая его за свой, а затем, чтобы спасти себя от светских сплетен, еще и сознательно распускает слух об увлеченности Звездича Ниной) приводит не к водевильной интрижке, а к трагедии – впрочем, когда она понимает, куда всех завела эта игра, она начинает терзаться муками совести и пытается все уладить, но получается только хуже. Поэтому в ее костюме шутовские и клоунские детали акцентированы красным цветом – цветом крови и страсти. Домино, в которое одета Нина, дает повод некоторым исследователям (например, А. Бассехесу) полагать, что художник таким образом сближает Нину с Неизвестным. Действительно, именно ложные слухи о романе Нины со Звездичем оказываются прекрасным способом для Неизвестного расквитаться с Арбениным (довести дело до того, чтобы тот погубил сам себя, не осознавая этого). С ума Арбенина сводит брошенная Неизвестным реплика: "Послушай: ты убил свою жену!". Для Арбенина Нина – смысл жизни, что-то вроде ангела-хранителя; если угодно – светлая и чистая часть его души. Нину Арбенин убивает, как сам он это объясняет, поскольку не может допустить, чтобы его жена, образец красоты, чистоты и верности, в глазах света считалась неверной. Но убийство Нины оказывается метафорой убийства Арбениным собственной души. Чего и добивается Неизвестный: ему нужна не физическая, а душевная смерть врага.
Белый, черный и красный (два последних – как дополнительные) – это цвета, которые маркируют Нину. Если на маскараде Нина была в белом домино с красной подкладкой, во время визита к баронессе она одета в платье красных тонов (о нем см. далее), а в сцене бала – в белое платье с черным треном, украшенным красными цветами (рис.). Колористическое и орнаментальное решение этого трена заставляет вспомнить костюм эпизодического персонажа – дамы в маске испанки на маскараде; так как этот эпизодический персонаж – один из символов рока, то и сам костюм Нины оказывается предвестником роковых и страшных событий. Нина словно надевает траур по себе самой, так как именно на этом балу Арбенин ее отравит. Белый цвет, сопровождающий Нину не только в ее костюмах, но и в связанных с ней интерьерах, указывает на ее простоту, скромность, невинность. Однако постоянно сопутствующие белому красный и черный, с одной стороны, подчеркивают трагизм судьбы Нины, ее зависимость от жестокого рока, с другой – намекают на то, что и она не столь чиста и невинна, как кажется. Действительно, замужняя женщина, которая без мужа отправилась в маскарад, – место, где бытуют не самые строгие нравы – выглядит с точки зрения того времени несколько странно. (Баронесса Штраль – вдова, то есть имеет право на несколько большую свободу, чем Нина, однако и она старается скрыть от света факт своего пребывания в маскараде, пусть за счет распускания ложных слухов о лучшей подруге, и этим самым "сохранить лицо"). Не говоря уже о том, что непонятно, как Нина могла выйти замуж за человека с таким темным прошлым, как Арбенин, который даже сам о себе говорит в достаточно нелестном тоне и к тому же общается с такими личностями, как Шприх и Казарин. Хотя, как уже было сказано, ни в тексте пьесы, ни в постановке "психологизм" и "достоверная" мотивация поступков персонажей особой роли не играют, "подтекст" и "затекст" препоручаются цветовым сочетаниям, несущим символическую функцию.
Красный цвет появляется в костюме Звездича (форменный доломан) (рис.) в сцене визита к баронессе (где он встречает Нину и где завязывается собственно интрига). Что интересно, Нина в этой сцене также одета в костюм, где доминируют красные тона (и вместе с тем в нем есть лиловое – цвет Неизвестного, маркирующий данную сцену как завязку трагедии рока). Баронесса же одета в костюм, где присутствуют голубые и бело-розовые тона – цвета Нины. В тексте пьесы на маскараде баронесса подсовывает князю случайно найденный ею браслет Нины (не зная, впрочем, чей он), не то чтобы избавиться от докучливого кавалера, не то просто шутки ради, а в сцене визита Нина при Звездиче демонстрирует второй браслет, говоря, что один потеряла – что Звездич воспринимает как изощренный способ флирта; таким образом, баронесса и Нина здесь словно меняются своими цветами, демонстрируя прием кви про кво). В красное Звездич одет и на балу, и в "страшной игральной", и всякий раз этот цвет может толковаться по-разному в зависимости от того контекста, в который помещен персонаж.
Цветное пятно присутствует, однако, и в костюме Арбенина – ядовито-зеленый жилет в сцене бала. Как отмечают исследователи (например, А. Бассехес), этот жилет несет чисто колористическую функцию (сочетается с общим цветовым решением бального интерьера, где присутствуют, между прочим, зеленые колонны). Однако у Головина вряд ли все так просто; вместе с тем следует опять обратиться к средневековой символике цвета. Зеленый цвет обычно считается цветом ревности (и ревность называют "чудовище с зелеными глазами"); кроме того, оттенок жилета всеми единодушно именуется "ядовитым". В сцене же бала Арбенин из ревности дает Нине яд в мороженом. Таким образом, костюм Арбенина словно предсказывает роковую развязку и причину этой развязки. (Кроме того, зеленый цвет – как уже было ранее сказано, здесь цвет, ассоциирующийся с "нечистой силой").
В зеленом жилете появляется на балу и Неизвестный; таким образом, оказывается, что зеленый цвет – это еще и цвет Неизвестного (ассоциирующийся при этом с игорным столом; ненависть же Неизвестного к Арбенину как раз и связана с одним инцидентом во время игры). В последней сцене он появляется как снова в бауте (проходя по сцене под занавес), так и в обычном, хотя и несколько странном по тем временам, сюртуке "департаментского" вида, отличительная особенность которого – белые металлические пуговицы на хлястике (которые видны, когда он поворачивается к залу спиной). Эта метка персонажа "не на том месте" указывает на его инверсированную природу, инакость.
Костюмы второстепенных персонажей и маски
Костюмы второстепенных, эпизодических персонажей (в том числе и тех, кого в самой пьесе Лермонтова вообще нет) также являлись предметом кропотливой работы Головина. Второстепенные персонажи создавали своего рода "хор" – как в современном, так и в античном понимании (кроме того, в музыке к спектаклю тоже использовался хор). От оттенков одежды персонажей, их сочетания с декорациями и костюмами главных героев зависело настроение всей сцены.
В первой картине общий мрачный колорит игорного дома поддерживался цветами костюмов игроков: сине-зелеными, лиловыми, серо-коричневыми. С одной стороны, мужская одежда лермонтовской эпохи действительно не была столь уж пестрой; с другой – костюмы игроков создавали единую цветовую гамму с обстановкой.
Во второй картине действует масса эпизодических персонажей, одетых в маскарадные костюмы. Несмотря на то, что на сцене они появляются очень ненадолго, каждый костюм создан с большой тщательностью и изобретательностью. Все эти маски (назовем их так) можно объединить в несколько групп. Первая – это романтические маски: восточная ночь, маркиз и т.д. В их костюмах преобладают основные цвета маскарада: синий, золотой, белый и т.д. – то есть неагрессивные, ассоциирующиеся с чем-то положительным. Вторая – сказочные герои (маг, царевна Бадруль-Будур, карлик и т.д.). Эти персонажи могут быть разными: и привлекательными, и страшными, и таинственными. Большую группу масок составляют национальные костюмы: китаец, испанка, бухарец, индус и т.д. Эти национальные костюмы не несут в себе никакого этнографизма (достаточно сравнить маскарадный костюм испанки с эскизами того же Головина к "Кармен"), однако и они имеют важную смысловую нагрузку. Так, по цветовой гамме костюм китайца явно соотносится с "романтическими" масками и с общим колоритом зала (кроме того, прилегающие к залу комнаты – в китайском стиле); в костюме же испанки – четко присутствующие уже знакомые нам маркированные черный и красный цвета. Это, видимо, по замыслу художника, должно было вызвать у зрителей ассоциацию с Кармен (но если в постановке "Кармен" Головин сознательно отказывался от штампов восприятия этой оперы и ее персонажей, здесь, напротив, сыграл именно на штампе, идеологеме, клише), с темой роковой страсти, гибели. Некоторые маски откровенно комичны – например, толстопузый амур с луком и стрелами (рис. 20). Вместе с тем этот юмор не столь беззаботен: маска амура сознательно предназначена пожилому актеру, и комический эффект от сочетания несочетаемого неожиданно оборачивается страшным архетипическим образом: вооруженный стрелами и луком старик с крыльями и девизом "все побеждает любовь" начинает восприниматься как символ смерти, которая тоже "все побеждает". Кроме того, лже-амур – символ еще одной важной темы спектакля: ложной любовной интриги. Звездич увлекся всего лишь маской, не думая, кто под ней находится (тем более под этой маской была баронесса), а Нина вообще до визита к баронессе знать ничего не знала про Звездича и инцидент с браслетом. У баронессы же диалог Нины со Звездичем по поводу браслета построен по уже упоминаемому ранее принципу "кви про кво": реплики Нины о потерянном браслете и ее искреннее недоумение по поводу своих страстных признаний Звездич воспринимает как тонкую любовную игру, и распаляется страстью еще больше. Тем не менее милая маскарадная путаница кончается физической гибелью Нины и моральной – Звездича (он так и остается с несмытым позорным пятном на репутации, так как сошедший с ума Арбенин уже никак не может дать ему сатисфакцию). Связь этого персонажа со Звездичем возможна еще и потому, что "купидоном" (то есть тем же амуром) Арбенин обзывает Звездича из-за надетой на нем женской маски во время маскарада.
Среди этих костюмов выделяются два "фантома": один в маске-черепе, на одеянии другого изображен скелет. Тревогу вносит и большая группа домино, – плащи с капюшонами поверх обычного платья – которые группируются вокруг Неизвестного. Впрочем, эти персонажи напоминают как раз средневековых танцоров – исполнителей плясок смерти.
Интересен костюм Пьеро, который и похищает у Нины браслет: традиционный костюм Пьеро – белый, но так как в белое одета на маскараде Нина, костюм Пьеро Головин решил в голубом цвете.
Тщательной проработкой отличаются и костюмы других эпизодических персонажей – игроков, гостей на балу, родственников на похоронах Нины. С одной стороны, они "вписываются" в общее декорационное решение сцены по цвету, деталям и т.д.; с другой – многие из этих костюмов сочетают в себе историческую достоверность и откровенный эстетизм (особенно это касается бальных платьев). Даже траурная одежда – например, костюм Тетки, пришедшей на похороны Нины – не просто воспроизводит подобный костюм той эпохи, но и передает характер персонажа.
Интересен по цветовому решению костюм денщика Звездича, Ивана, который встречает Арбенина накануне сцены в "страшной игральной" и которому Арбенин передает записку, выманивающую Звездича на ту самую игру, на которой Арбенин решил окончательно погубить репутацию мнимого соперника, ложно обвинив его в шулерстве. Одежда Ивана (персонажа, у которого буквально несколько реплик), как, впрочем, и одежда самого князя, решены в серо-желтых тонах. С одной стороны, Иван одет так, как тогда и одевались "нижние чины"; с другой, такое сочетание цветов (серый и желтый) позаимствовано из средневековой цветовой символики. Это цвета апостола-предателя Иуды и адского серного дыма. Не исключено, что этот цвет выбран, чтобы показать отношение Арбенина к прочим задействованным в ней персонажам. Арбенин считает Звездича предателем, отплатившим ему за свое спасение от карточного проигрыша черной неблагодарностью (да, князь действительно проникается страстью к Нине, однако в реальности никакого романа нет).
2.4 Судьба постановки Мейерхольда в театральной критике
Вместе с тем далеко не все критики и зрители приняли "Маскарад" безоговорочно. Так, в своих воспоминаниях музыкант Ю. Елагин отмечает, что спектакль вышел "пышным и красочным", художник и режиссер проявили "бездну тонкого вкуса", но это были "лишь прекрасные живые картины". Елагин полагает, что "Маскарад" – не лучшее творческое достижение Мейерхольда: успех его у публики (спектакль шел всегда при полных сборах и неоднократно возобновлялся в репертуаре уже после Октябрьской революции) объяснялся только его красотой и зрелищностью. Это был и не условный, и не реалистический театр: "за шесть лет репетиций В.Э. вогнал актеров Александринки в железные рамки своих "живых картин", засушил их, сделал из них если не марионеток на этот раз, то нарядных манекенов… Получилась выхолощенная пустота". Причину этой неудачи Елагин видит в том, что для реализации своего замысла Мейерхольду были нужны актеры не реалистического "жизнеподобного" театра, а воспитанные его собственной школой "биомеханики". При этом ответственность за неудачу лежит и на самом Мейерхольде как режиссере, который слишком долго работал над спектаклем и пал жертвой собственного, говоря современным языком, перфекционизма. В доказательство своей правоты Елагин приводит слова Станиславского "Дотошность – иногда бич для актера", расширяя их смысл до "Дотошность – это бич для искусства". Более того, по мнению Елагина, у Мейерхольда не было, говоря современным же языком, целевой аудитории: он был равно чужд эстетически и рабочим, и интеллигенции, и аристократии.
Одним из первых откликов на премьеру оказалась разгромная, но не являющаяся критикой по существу статья А.Р. Кугеля (Homo novus) в № 10-11 журнала "Театр и искусство" от 12 марта 1917 г. Кугель относился к Головину и Мейерхольду резко отрицательно, не понимая и не принимая их новаторства. Постановку он обругал "мазилочными, костюмерными и дивертисментными интермедиями, навалившимися на хрупкие плечи юной лермонтовской драмы"; костюмы нашел "безобразными", "утрированными".
За три дня до появления этой статьи в газете "Речь" (№ 67 от 9 марта 1917) появилась менее резкая по форме, но не менее резкая по содержанию статья художника из бывшего "Мира Искусства" М. Добужинского под псевдонимом Amadeo. Статья эта называлась "Напрасная красота", и основной ее пафос заключался в том, что несмотря на красоту постановки, все это ненужно и даже вредно, поскольку переходит допустимые чувством меры границы. По мнению Добужинского, в этом спектакле ничего не осталось от самого Лермонтова, в нем отсутствует композиция, нет единой художественной мысли. Добужинский обрушивается даже на историческую достоверность декораций и костюмов, говоря о "веселенькой спальне-модерн" Нины, о "промахах" в костюмах баронессы, Арбенина, даже служанки, которая, по его мнению, одета как субретка из барочной испанской комедии. Однако эта статья написана под сильным влиянием А. Бенуа, не желавшего признавать в Головине театрального художника (что, скорее всего, продиктовано профессиональной ревностью со стороны Бенуа).
По сравнению с этими двумя статьями статья В.Н. Соловьева ("Аполлон", №2-3 за 1917 г., с.72 – 76) выгодно отличается от двух разобранных ранее прежде всего объективностью. Он отмечает "редкое для театрального представления совпадение планов режиссера и художника-живописца"; в частности, в заслугу обоим он ставит… внесение "радостного начала в сценическое изображение смерти". Однако работа актеров его не удовлетворяет совершенно. "Не режиссер и художник "убили актера", как в этом стараются всех убедить представители нашей правоверной критики, но актеры показали всю свою беспомощность: отсутствие техники, артистического темперамента и вкуса".
Заключение
Итак, в постановке В.Э. Мейерхольда "Маскарад" нашли свое логическое завершение многие идеи и тенденции культуры Серебряного века. Работая в рамках возникшего в эту эпоху "условного театра", Мейерхольд делает при постановке особый акцент не на "психологизм" и "правдоподобие" актерской игры и не на "реализм" декораций и костюмов, а на выразительность музыки, пластики, цвета, формы, линии.
Художник А.Я. Головин, работая над оформлением спектакля, здесь становится соавтором режиссера, и его решение сценического пространства, декорации и костюмы не просто выражают мейерхольдовскую концепцию, но дополняют ее и, возможно, высказывают то, что режиссером было сознательно имплицировано.
Иллюзорность, "галлюцинаторность", двойственность происходящего на сцене создаются при помощи оптических и не только приспособлений, дробящих сценическое пространство, делающих его изменчивым и неустойчивым. Для этого служит, во-первых, особая система занавесов, во-вторых, использование зеркал. С одной стороны, зеркало как оптическое приспособление нарушает границу между сценой и зрительным залом, с другой – создает иллюзию "глубины", присутствия некого иного мира и т.д.; кроме того, зеркало – один из излюбленных символов эпохи романтизма (в которую разворачивается действие пьесы Лермонтова), а также символ Венеции (города, знаменитого своими карнавалами и постановками итальянской комедии масок; маски традиционной итальянской комедии – постоянный мотив в художественных произведениях Серебряного века, появляются они и в постановке Мейерхольда).
Занавесы призваны не просто делить сценическое пространство, маркировать место и время действия того или иного эпизода. Цветовая гамма занавесов и изображения на них также имеют символический смысл. При этом цвета занавесов могут перекликаться с цветами костюмов персонажей и цветовым решением интерьеров. Так, алый и черный цвета, в которых решен главный занавес спектакля, и повторяют цвета карточных мастей, и намекают на инфернальное (алый – цвет огня, страсти и крови) и трагическое (черный) начала. Сочетание черного и красного присутствует и в костюмах персонажей, вовлеченных в мрачную интригу и ставших ее жертвами (Нина, баронесса, Звездич), и в костюме Неизвестного, "режиссера" всей интриги, а также в интерьере "страшной игральной". Противопоставленные этому сочетанию белый и сочетания голубого, розового и светло-желтого присутствуют в интерьерах и костюмах персонажей, ничего грозного и опасного в себе не несущих. Вместе с тем и белые одеяния Нины (на маскараде и в сцене бала), и светлая гамма некоторых интерьеров, связанных и Ниной (комната баронессы, бальный зал, спальня), разительно контрастируют с трагической судьбой героини и мрачными событиями, развертывающимися на столь безмятежном фоне.
В смене цветов в интерьерах и костюмах персонажей (одни и те же персонажи могут появляться в костюмах разного цвета в зависимости от ситуации) также отражается развертывание действия спектакля; исчезновение одного цвета и нагнетание другого свидетельствует о смене настроений.
Костюмы персонажей несут тоже несколько функций. С одной стороны, это достаточно реалистически переданные костюмы лермонтовской эпохи (форменная одежда чиновников и военных, дамские моды и т.д.); с другой – покрой и сочетание цветов даже в самом реалистически переданном костюме, а также соотношение цветов костюмов, занавеса и декораций, также служит для передачи имплицированного смысла постановки. Так, неожиданную выразительность получают аксессуары одежды (например. пуговицы на сюртуке Неизвестного) или одежда эпизодического персонажа (серо-желтый оттенок одежды денщика Звездича – цвет предательства и адской серы – и т.д.).
И в занавесах, и в декорациях, и в прочем оформлении сцены (вплоть до мелких деталей реквизита), и в костюмах (пусть и не во всех) Головин стремился к максимальной декоративности. Все художественное оформление спектакля работало на раскрытие смысла заглавия пьесы – "Маскарад", то есть яркое и пышное действо, участники которого своим внешним видом и поведением стараются, с одной стороны, максимально скрыть собственную идентичность, с другой – максимально точно соответствовать тому образу, маске, которую носят. Не случайно столь детально проработаны не только костюмы главных героев пьесы, но даже эпизодических персонажей – участников бала или маскарада.
Список использованной литературы
1."Маскарад" Лермонтова в театральных эскизах А.Я. Головина // Труды Государственного Центрального театрального музея им.А. Бахрушина. Под ред.Е. Е. Лансере. – М. – Л., 1941
2.Альмендинген Б.А.Я. Головин – художник театра. – М. – Л., 1956
.Анпеткова-Шарова Г.Г., Дуров В.С. Античная литература. – СПб., 2003
.Асафьев Б.В. Русская живопись. Мысли и думы. – М., 2004
.Бассехес А.И. Театр и живопись Головина. – М., 1970
.Бахтин М.М. Франсуа Рабле и народная смеховая культура. – М., 1965
.Вислова А.В. "Серебряный век" как театр. Феномен театральности в культуре рубежа XIX – XX веков. – М, 2000.
.Власова Р.И. Русское театрально-декорационное искусство начала XX века. Из наследия петербургских мастеров. – Л., 1984.
.Гвоздев А. Театральная критика. – Л., 1987
.Давыдова М.В. Художники в театре начала XX века. – М., 1999
.Елагин Ю.Б. Мейерхольд. Темный гений. – М., 1998
.Костина Е.М. Художники сцены русского театра XX века. – М., 2002
.Лапшин В.П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 г. – М., 1983
.Лермонтов М.Ю. Стихотворения. Поэмы. Маскарад. Герой нашего времени. / М.Ю. Лермонтов. – М.: Художественная литература, 1984. – 493 с. (Классики и современники. Русская классическая литература)
.Лермонтовская энциклопедия. – М., 1981
.Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). / Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство, 1994. – 399 с., 5 л. ил.
.Маковский С.К. На Парнасе Серебряного века. – М, 2000
.Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. – М., 1968
.Мочульский К.В. Александр Блок. Андрей Белый. Валерий Брюсов. – М., 1996
.Онуфриева С.А. А.Я. Головин – театральные эскизы. – Л.: "Художник РСФСР", 1962
.Онуфриева С.А. А.Я. Головин. – Л., 1977
.Петров В. "Мир Искусства" – М., 1975
.Пожарская М.Н. Александр Головин. Путь художника. – М., 1990
.Пожарская М.Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX веков. – М., 1970.
.Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. – СПб.: Изд. СПбГУ, 1994
.Рудницкий К.Л. Режиссер Мейерхольд. – М., 1969
.Русская художественная культура конца XIX – начала XX в. (1908 – 1917) – Кн.3. – М., 1977
.Хёйзинга Й. Осень Средневековья. – М., 2003
.Юрьев Ю.М. Записки. – М., 1969
.Головин А.Я. Как я ставил "Маскарад" / А.Я. Головин // Красная панорама. – Л., 1926. – № 17, 23 апреля. – С.12-13
.Головин А.Я. Как мы работали / А.Я. Головин // Рабочий и театр. – Л., 1926. – №15, 13 апреля. – С.10
.Чепуров А. Мизансцены на музыке. "Маскарад" в постановке Мейерхольда / А. Чепуров // Meyerhold. La mise en scene dans le siècle. – Мейерхольд. Режиссура в перспективе века. Материалы симпозиума критиков и историков театра. Париж, 6 – 12 ноября 2000. – М., О.Г.И., 2001. – С.357 – 368
.Mignon P. – L. Le théâtre au XXe siècle. / P. – L. Mignon – Paris: Edition Gallimard, 1986. – 352 p.